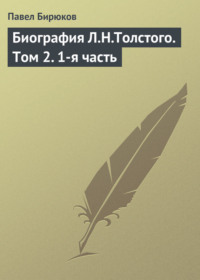полная версия
полная версияБиография Л.Н.Толстого. Том 3
Когда я сам себя жалоблю, я говорю себе: неужели так и придется мне умереть, не прожив хоть один год вне того сумасшедшего безнравственного дома, в котором я теперь вынужден страдать каждый час, не прожив хоть одного года по-человечески, разумно, т. е. в деревне, не на барском дворе, а в избе, среди трудящихся, с ними вместе трудясь по мере своих сил и способностей, обмениваясь трудами, питаясь и одеваясь, как они, и смело, без стыда, говоря всем ту Христову истину, которую знаю. Я хочу быть с вами откровенен и говорю вам все; но так я думаю, когда я себя жалоблю, но тотчас же я поправляю это рассуждение и теперь делаю это. Такое желание есть желание внешних благ для себя – такое же, как желание дворцов, и богатства, и славы, и потому оно не Божье. Это желание ставить палочку поперечную креста поперек, это недовольство теми условиями, в которые поставил меня Бог, это неверное исполнение посланничества. Но дело в том, что теперь я как посланник в сложном и затруднительном положении и не знаю иногда, как лучше исполнить волю пославшего. Буду ждать разъяснений. Он никогда не отказывал в них и всегда давал их вовремя».
Замечательна в этом письме глубина и тонкость душевного самоанализа. Л. Н-ч отрицает здесь не только материальную, но и моральную роскошь. Он доходит до предела самоотвержения. Ему уже хочется уйти, пожить в моральной свободе, но он считает это моральной роскошью и решается лучше терпеть эту моральную нужду, нести на себе эти моральные вериги, чтобы не нарушить любовь с близкими людьми. Много раз чувство свободы прорывалось через эти добровольно наложенные им на себя цепи и в нем снова являлось желание уйти. Такой «прорыв» совершился и в этом же 1885 году, в декабре.
Софья Андреевна так описывает это в письме к своей сестре:
«Случилось то, что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я смотрю – лицо страшное. До тех пор жили прекрасно: ни одного слова неприятного не было сказано, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку».
Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Я спрашиваю удивленно: «Что случилось?»
«Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет». – Что накладывалось – неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу – человек сумасшедший, и когда он сказал, что «где ты – там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это?» Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочку всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети 4: Таня, Илья, Леля, Маша, ревут на крик: нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей – говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности – все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь за что же? Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?
Подписка на издание идет такая сильная, что я весь день, как в канцелярии, сижу и орудую всеми делами. Наняла артельщика для укладки и беготни. Страшно утомительно и трудно. Денег выручила 2000 в 20 дней. Статьи две Победоносцев запретил окончательно. Вчера получила очень любезное от него письмо и отказ.
Ну вот, после этой истории, вчера, почти дружелюбно расстались. Поехал Левочка с Таней вдвоем на неопределенное время в деревню к Олсуфьевым за 60 верст, на Султане, вдвоем в крошечных санках. Взяли шуб пропасть, провизии, и я сегодня уже получила письмо, что очень весело и хорошо доехали, только шесть раз вывалились. Я рада, что Левочка отправился в деревню, да еще в хорошую семью и на хорошее содержание. Я все эти нервные взрывы и мрачность и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось он там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и пр. он замучил себя до худобы и до нервного состояния».
А во Льве Николаевиче такие эпизоды вызывали чувство умиления и покаяния, и тяжелое чувство исчезало тогда, когда ему удавалось снова вызвать любовь к тем, кто «не знали, что творили». Это настроение Л. Н-ча ярко выступает из его письма к Черткову, написанному им во время своего пребывания у Олсуфьевых в конце этого года:
«Удивляюсь, почему люди не любят и стыдятся быть жалкими: мне радостнее всего именно это чувство сострадания. Я его заслуживаю со всех сторон. Много хотелось бы сказать вам, но отложу до свидания, если Бог велит. Я пробыл здесь 8 дней, и мне было почти хорошо. Нехорошо – полное непонимание того, в чем моя жизнь, и роскошная праздная жизнь, а хорошо – доброта, честность и чистота и не любовь, а уважение ко мне всех их. Кроме того, были мои: Сережа, Таня и Леля, и теперь еще здесь двое. В самое Рождество случилось, что я пошел гулять по незнакомым пустынным, зимним, деревенским дорогам и проходил весь день и все время думал, каялся и молился. И мне стало лучше на душе с тех пор. Я твердил одно: Отец наш – всех нас людей, отец не земной, а небесный, вечный, от которого я изшел и к которому приду, свята да будет для нас сущность (имя) твоя (сущность твоя есть любовь). Да будет царствовать твоя сущность – любовь так, чтобы как на небе любовно, согласно совершаются движение и жизнь светил – воля твоя, чтобы так же согласно, любовно шла наша жизнь здесь по твоей воле. Пищу жизни, т. е. любви к людям, отношение с людьми, дай нам в настоящем, а прости, сделай, чтобы не имело на меня, на мою жизнь влияние то, что было прежде, и потому я не вменяю никому из людей, что прежде они сделали против меня. Не введи меня в искушение, извне соблазняющее меня, но главное – избави меня от лукавого, от зла во мне. В нем гордость, в нем желание сделать то, что хочется, в нем все несчастия, – от него избавь!
Пожалуйста, не показывайте всем моего письма. Неясно, странно, что я пишу, но тот, кто ходит теми дорогами, как я, поймет меня – вы. Я молился, как и всегда, с радостью и сознанием оживания. Кто не любит брата, тот пребывает в смерти. Я это боками узнал. Я не любил, имел зло на близких, и я умирал и умер. Я стал бояться смерти – не бояться, а недоумевать перед нею. Но стоило восстановить любовь, и я воскрес. Помогай нам Бог не умирать. Завтра, если буду жив, поеду в Москву. Приезжайте, все переговорим. Очень хочу работать, но вот уже давно нет сил. Я забыл первую заповедь Христа: не гневайся. Так просто, так мало и так огромно. Если есть один человек, которого не любишь – погиб, умер. Я это опытом узнал».
Его друг, конечно, исполнил его желание – не показал при его жизни этого письма «всем». Но теперь, когда истлела его телесная оболочка, для духа его уже нет «всех» и не «всех», и мы считаем, что опубликование этого письма только прибавит новый светлый луч к жизни его великой души.
Но идейный разлад в его семенной жизни не уступал никаким попыткам со стороны Л. Н-ча.
В одном письме этого же времени С. А. категорически заявляет: «В нашей жизни, которую будто бы я веду, нельзя сойтись с Левочкиными убеждениями».
Трудно придумать более трагическую обстановку жизни Л. Н-ча. Весь пылающий самоотверженным служением ближнему, опростившийся, находящий отраду в простой мужицкой работе как в деревне, так и в городе, он встречает среди близких ему людей или полное непонимание, или равнодушие, или враждебность, или презрительно-снисходительную иронию.
Часто, утомленный этой борьбой, Л. Н-ч уезжал или уходил из города в Ясную Поляну и там отдыхал в простой, трудовой жизни. Запасшись силами, он снова возвращался к семье. Вот как описывает С. А. одно из таких возвращений в письме к сестре Т. А.:
«…Левочка вернулся 1-го ноября. Мы все повеселели от его приезда, и сам он очень мил, спокоен, весел и бодр. Только он переменил еще привычки. Все новенькое, что ни день. Встает в семь часов, когда еще темно. Качает на весь дом воду, везет огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова, и колет, и складывает в сажень. Белый хлеб не ест; никуда положительно не ходит. Сегодня я возила его в санках снимать портрет к фотографу в Газетный переулок…»
Как велика была его радость, когда он замечал в семье проблески истинного разумения жизни.
Одной из первых доставила ему эту радость его старшая дочь Татьяна Львовна. Вот что писал ей Л. Н-ч в октябре 1885 года:
«…Ты в первый раз высказалась ясно, что твои взгляд на вещи переменился. Это моя единственная мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться, – та, чтобы найти в своей семье братьев и сестер, а не то, что я видел до сих пор – отчуждение и умышленное противодействие, в котором я вижу не то пренебрежение, не ко мне, а к истине, не то страх перед чем-то…»
И тотчас же Л. Н-ч старается дать дочери советы, как ей укрепиться на этом новом пути:
«…Тебе важнее убрать свою комнату и сварить свой суп (хорошо бы, коли бы ты это устроила – протискалась бы сквозь все, что мешает этому, особенно мнение), чем хорошо или дурно выйти замуж».
Это письмо он пишет из Ясной Поляны в Москву и в таких выражениях описывает свой образ жизни:
«…Я живу очень хорошо. Я никого не вижу кроме А. Петр. (ресурсы которого очень ограничены), и если бы верил в счастье, т. е. думал бы, что надо замечать и желать его, я бы сказал, что я счастлив. Не вижу, как проходят дни, но думаю, что делаю то, что надо, что хочет от меня то, что пустило меня сюда жить».
Времена этой тяжелой внутренней борьбы сменяются интенсивной творческой работой и эта смена с радостью отмечается его семейными.
В сентябре С. А. пишет своей сестре:
«…Он без вас написал чудесную сказку, прочел нам, и мы все пришли в восторг. Теперь он ее старательно переделывает и дает в мое издание. Потом он взял все те отрывки пересмотреть и поправить, которые поступят в новое издание: «История лошади», «Смерть Ив. Ильича» и др. Через неделю их надо печатать, так как все подвигается к концу».
И далее, уже в декабре того же года:
«…На днях Левочка прочел нам отрывок из написанного им рассказа, мрачно немножко, но очень хорошо; вот пишет-то, точно пережил что-то важнее, когда прочел и такой маленький отрывок. Назвал он это нам: «Смерть Ивана Ильича». Левочка был все время очень мил, бодр, ласков даже с чужими. Он отделывает статью и обещает после этой статьи продолжать этот прочтенный нам рассказ. Дай-то Бог».
Надо сказать несколько слов о сказке, о которой упоминает Софья Андреевна в письме к сестре.
Думая о народной литературе, Л. Н-ч постарался в художественной форме народной сказки, со всеми обычными волшебными аксессуарами и чертями, выразить в юмористической форме свое критическое отношение к современному строю и в самой легкой, общедоступной форме изложить свои общественные идеалы. И в это время, осенью 1885 г. он пишет сказку «Об Иване-дураке и его двух братьях: Семене Воине и Тарасе Брюхане и немой сестре Маланье и о старом дьяволе и трех чертенятах». Теперь эта сказка в миллионах экземпляров облетела весь мир, переведенная на многие языки. Простой, но глубокий смысл ее еще долгое время будет служить путеводною нитью в разрешении многих сложных вопросов общественной жизни. В «Семене Воине и его царстве» Л. Н-ч., по его собственным словам, делает меткие художественно-критические намеки на развитие милитаризма в царстве Николая I, а «Тарас-Брюхан» – это прообраз идущего ему на смену капиталистического строя. А единый закон Иванова царства: «у кого мозоли на руках – полезай за стол, а у кого нет мозолей – тому объедки со свиньями», будет служить вечным обличением паразитизма привилегированных классов. Конечно, эта ирония не была понята, и многие интеллигенты от большого ума обиделись на эту сказку, видя в ней оскорбление всего мыслящего человечества, и откровенно бойкотировали ее.
В простом народе, по нашему личному опыту, она имела большой успех.
Самое творение художественных произведений было для него отравлено сознанием, что все, что он напишет, будет продано по дорогой цене богатым людям, очень малая часть этого станет доступна народу, а на вырученные от продажи дорогого издания деньги будет поддерживаться та праздная и роскошная жизнь, которую он беспощадно осудил для самого себя и считал нравственной, умственной и физической отравой для своих детей.
Полное собрание сочинений Л. Н-ча Толстого, которым занималась С. А. в то время, было первым ее выступлением на издательском поприще.
Первым порывом Л. Н-ча, когда христианские взгляды его вполне определились, было отказаться от всяких литературных прав и начать раздавать свое имущество бедным.
Это намерение его встретило столь страстный протест его семьи, преимущественно со стороны его жены, что Л. Н-ч усомнился в правильности своего решения. Ему было категорически объявлено, что если он начнет раздавать имущество, то над ним будет учреждена опека за расточительность вследствие психического расстройства. Таким образом, ему угрожал дом умалишенных, а имущество все-таки осталось бы в руках семьи. Тогда он изменил свое решение.
В искании способа, как избавиться от собственности, не нарушая интересов семьи или, по крайней мере, не возбуждая в семейных недоброго чувства, Л. Н-ч попробовал еще один выход.
Придя в комнату Софьи Андреевны, он сказал ей приблизительно следующее: «Мне так тяжело владеть и распоряжаться собственностью, что я непременно решил избавиться от нее, и вот я обращаюсь к тебе первой: возьми все – и дом, и землю, и сочинения – и распоряжайся ими, как знаешь: я выдам тебе какой нужно документ».
Конечно, это было произнесено с большим волнением в голосе и встречено было так же и Софьей Андреевной. Не чувствуя себя в силах взять все на свою ответственность, она категорически отказалась. «Если ты это считаешь злом, зачем же ты хочешь навалить все это на меня?» – ответила она ему, парируя удар.
Тогда Льву Николаевичу оставалось только одно: прибегнуть к полумерам и к постепенному освобождению себя от собственности, что он и совершил в течение своей жизни.
Первой такой полумерой была передача С. А-не права на издание своих сочинений.
Первое издание собрания сочинений Л. Н-ча Софьей Андреевной было сделано в 1885 году, в двенадцати томах; XII том был весь новый и заключал в себе несколько народных рассказов, написанных Л. Н-чем для «Посредника»: повесть «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер» и отрывки из его статьи «Так что же нам делать?», допущенные цензурой. К сожалению, этот XII том не продавался отдельно, что, конечно, было выгодно для издательницы, так как читатели, чтобы получить XII том, должны были покупать все собрание; эта мера вызвала справедливое возмущение многих почитателей Л. Н-ча и, между прочим, грубые нападки в печати популярного тогда критика Н. К. Михайловского. Все это, конечно, доставило немало страданий Л. Н-чу.
В марте Л. Н-ч поехал в Крым, чтобы проводить туда своего большого друга, князя Леонида Дмитриевича Урусова, бывшего тогда вице-губернатором в Туле.
Об этом замечательном человеке следует сказать несколько слов. Он имел своеобразное влияние на Льва Николаевича. Несмотря на свое высокое административное положение, он разделял взгляды Л. Н-ча и был одним из первых людей высшего круга, выразивших Л. Н-чу свое сочувствие. Он перевел на французский язык «В чем моя вера?» под названием «Ма religion» и издал эту книгу в Париже. Это издание послужило, вероятно, главным орудием распространения новых взглядов Л. Н-ча в Западной Европе и Америке. Из других трудов кн. Урусова укажем на перевод его на русский язык «Размышления императора Марка Аврелия»; перевод, долгое время бывший единственным на русским языке. Князь Урусов, живя в Туле, часто навещал Л. Н-ча и в Москве, и в Ясной Поляне и был другом дома в семье Толстых. Тяжкая болезнь заставила его удалиться в Крым, куда его весной 1885 г. проводил Лев Николаевич, и где он скончался осенью того же года.
Сначала Л. Н-ч съехался с Урусовым в имении его родственников Мальцевых, известных богачей-заводчиков в Брянском уезде, Орловской губернии, в их имении Дядькове. В письмах к Софье Андреевне Л. Н-ч описывает необыкновенную роскошь жизненной обстановки Мальцевых. Л. Н-ч относился к ней с терпимостью как гость; интересовала же его, как всегда, жизнь окружающего их рабочего народа. Он осматривает заводы, помещения работ, идет на базар и так описывает свои впечатления в письме к жене:
«До сих пор писать не пришлось. А совестно жить без работы. Все работают, только не я. Вчера я провел время на площади, в кабаках, на заводе, один, без чичероне, и много видел и слышал интересного, и видел настоящий трудовой народ. И когда я его вижу, мне всегда еще сильнее, чем обыкновенно, приходят эти слова: все работают, только не я. Нынче опять у Мальцева, в этой роскоши. Через два дня опять в роскоши и праздности. Так и кажется, что переезжаешь из одной богадельни в другую».
11-го марта они выехали, направляясь на юг. В Харькове была остановка, и Л. Н-ч воспользовался тем, чтобы посетить своего друга Русанова и друга своего умершего брата Дмитрия, профессора Якоби.
В письме к жене он так описывает это посещение Харькова:
«Нишу из Харькова, в 8 часов вечера. Мы едем через час. В Харькове стояли 7 часов. Я покинул князя и поехал в город на конке, которая подходит к самому вокзалу, купить провизию, минеральные воды Урусову и исполнить поручение Дмоховской через Русанова. Был в суде, ждал долго Русанова и под конец дождался. Потом пошел мимо университета, вспомнил о Якоби, товарище Митеньки, профессоре гигиены, спросил его и зашел к нему. Он с семьей, милый, умный и приятный человек. Мы не видались с ним 40 лет. Он меня не узнал. С ним поговорили, и он провел меня прямо к Русанову, у которого пил чай, и вот приехал. И то и другое впечатление очень приятное».
В одном из следующих писем Л. Н-ч рассказывает впечатления Крыма, природа которого подействовала на Л. Н-ча особенно своими воспоминаниями; в письме со станции «Байдарские Ворота», на полдороге от Севастополя до Симеиза, где пришлось кормить лошадей, Л. Н-ч пишет:
«Мы здесь кормим и встретили господина, едущего в Москву и тоже кормящего. Это оказался господин Абрикосов молодой. Он меня узнал и читал, и жена его, которую он свез в Крым; и я пользуюсь тем, что он приедет прежде почты. Погода прекрасная, жарко в горах, по которым мы ехали. Урусов взял ландо не открывающееся и хуже кареты, и я залез на сундук, на козлы. Ехал и не то что думал, но набегали новые, нового строя – хорошие мысли. Между прочим одно: каково! Я жив и еще могу жить! Еще: как бы это последнее прожить по божьи, т. е. хорошо. Это очень глупо, но мне это радостно.
Цветы цветут, и в одной блузе жарко. Лес голый, но на весеннем чутком воздухе сливаются запахи, то листа вялого, то человеческого испражнения, то фиалки, и все перемешивается. Проехали по тем местам, казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи, и странно: воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости. Что если бы это было воспоминание какого-нибудь народного торжества, общего дела, ведь могут же такие быть! Еще на козлах сочинял английского милорда. И хорошо. Еще думал, по тому случаю, что Урусов, сидя в карете, все погонял ямщика, а я полюбил, сидя на козлах, и ямщика, и лошадей, – что как несчастны вы, люди богатые, которые не знают ни того, в чем едут, ни того, в чем живут (т. е. как выстроен дом), ни что носят, ни что едят. Мужик и бедный все это знает, ценит и получает больше радости. Видишь, что я духом бодр и добр. Если бы только не неизвестность о тебе и детях. Целую их всех. Обнимаю тебя. Подали лошадей Абрикосову, он едет».
Живя в Крыму с Урусовым у его родственника Мальцева, Л. Н-ч по обыкновению присматривался к жизни народа. В одном из писем к жене он пишет:
«Нынче я опять встал рано, и, напившись кофе, пошел с Урусовым в татарскую деревню. Там встретили старика 65 лет: он идет на работу за 2 версты в гору. Я предложил ему наняться работать. Он согласился за рубль. Но это оказалась шутка. Он признал во мне богатого. И стал предлагать землю купить у него. И показывал землю и восхвалял ее. За 6 десятин просит 6000. Тут и виноградник, и табак, и каштаны, и инжир, и грецкие орехи. Я дошел с ним до его плантации. Лазили по скалам, а в глуши нашли в лощинке, – его 4 сына в белых рубахах копают заступами виноградник, а он обрезает. Я поработал с ними и пошел домой».
Желание новых впечатлений в художнике было так сильно, что ему не хотелось даже работать пером: в том же письме он пишет:
«Работать не принимался: слишком жалко потерять, возможность увидать». Но тем не менее, уступая просьбам Черткова, он пишет там небольшой рассказ для народа, под названием «Ильяс». Рассказ этот был издан «Посредником» и в копеечной книжке, и в виде текста к лубочной картине, нарисованной для этой цели художником Кившенко. Воспользовавшись случаем пребывания в Крыму, Лев Николаевич заехал в имение Н. Я. Данилевского Мшатку, чтобы познакомиться с другом своего друга, Н. Н. Страхова. Свидание было очень радостное и оставило в обоих самое хорошее воспоминание.
В эту крымскую поездку со Л. Н-чем произошел странный случай. Остановившись в Севастополе, Л. Н. пошел прогуляться по прежним местам укреплений, служивших театром военных действий в севастопольскую кампанию. Гуляя, он нашел старый снаряд. Вернувшись в Севастополь, он показал этот снаряд своему знакомому артиллерийскому офицеру, сослуживцу с ним в Севастополе, и тот объяснил ему, что снаряд этот очень редкий, что его в севастопольскую кампанию только пробовали, и, насколько он помнит, этим снарядом был произведен только один выстрел. И когда он стал припоминать обстоятельства этого выстрела, то оказалось, что выстрел этот был произведен именно той батареей, которой командовал Л. Н. Таким образом, он нашел через 30 лет выпущенный им единственный снаряд.
24-го марта Л. Н-ч возвратился в Москву.
Он продолжает уже письменное общение со своим больным другом кн. Л. Д. Урусовым, все еще жившим и медленно угасавшим в Крыму. В июне Л. Н-ч между прочим написал ему такое определение «Что такое слово?»:
«…Я последнее время все больше и больше убеждаюсь в том, что люди совершенно напрасно гордятся тем, что они имеют преимущество перед животными в воображаемом даре слова, т. е. способности сообщать свои и, следовательно, понимать чужие мысли. Такого дара у всех людей вообще никогда не было и нет. И изречение дипломата, что слово дано людям для того, чтобы скрывать свои мысли, совсем не шутка, а ужасная правда. Я прибавил бы только еще то, что оно употребляется людьми для того же, для чего употребляется птицами – соловьями: для удовольствия сочетаний звуков и формальных образов, для личного удовольствия, но никак не для сообщения мыслей… Очень может быть, что и соловей какой-нибудь или кукушка просвистали или прокуковали какую-нибудь новую мысль о том, как улучшить жизнь этих птиц. Результаты те же самые. И результаты моих и ваших логических доводов разве не такие же, comme si l'on chantait. Да, начало всего слово; слово – святыня души, а не свист птицы. И слово это есть одно божество, которое мы знаем, и оно одно делает и претворяет мир. Страшно только, когда смешаешь его со словом – произведением гортани, языка и губ человеческих».
Н. Я. Данилевский, познакомившись со Л. Н-чем и заинтересованный его личностью, спрашивает о нем Страхова, и тот, приехав в Ясную Поляну в этом же году погостить, пишет Данилевскому о том, как проводит время Л. Н-ч и его сожители. Вот это интересное письмо:
«…Ясную Поляну нашел я наполненную женщинами и детьми, человек до 30, и среди них двое мужчин, Лев Николаевич и Кузминский. Такова она была и 14 лет тому назад, когда я в первый раз в нее заехал, только моложе и не так многолюдна, много народилось с тех пор… Л. Н. был нездоров и не в духе и до сих пор жалуется, хотя и поправился немного. Сейчас же принялся он читать мне свою статью о деньгах, очень остроумную, но не захватывающую вполне вопроса. Потом прочитал я старый, неоконченный рассказ «Лошадь», потом новые рассказы: «Где любовь, там и Бог», «Упустишь огонь – не погасишь», «Свечка», «Два старика». Все это он делает для тех народных изданий, которые я вам показывал; два последние рассказа удивительны по своей художественности и по чудесному смыслу; они взяты из народных рассказов. Он исключительно этим и занимается.
Я сплю в его кабинете, встаю в 8 часов, пью кофе и завтракаю. Часов в 11 он приходит ко мне, сам убирает и подметает кабинет, умывается, и мы идем на крокет, т. е. под клены, возле крокета, где старшие члены обеих семей пьют утренний кофе. Через час или полтора мы расходимся; он уходит в кабинет, а я в павильон, в котором теперь пишу к вам и который появился лишь нынче весною. В 5 часов обед; каждая семья особо. В 8 часов детский чай; в 10 часов чай и ужин для взрослых, сходятся обе семьи и проводят время до полуночи, потом расходятся. Людно и пестро чрезвычайно; между обедом и чаем прогулки, купанье и всякое безделье. Переписка у него огромная, т. е. он много получает писем с просьбами о деньгах и о советах, на которые не отвечает. Но, кроме того, переписывается с людьми, работающими для издания книжек и картин для народа. Словом, литературная его деятельность кипит. Жена теперь держит корректуру нового издания собрания сочинений, и я помогал; кроме того, она приводит в порядок и переписывает все старые рукописи. В новом собрании будет напечатано кое-что и неизданное».