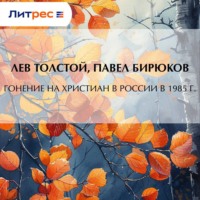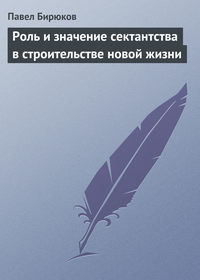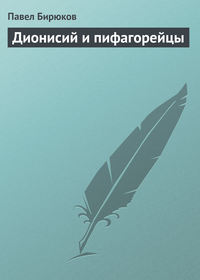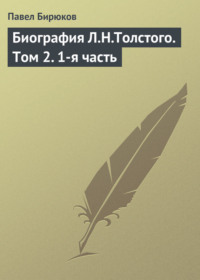полная версия
полная версияБиография Л.Н.Толстого. Том 3
Раз он как-то увидел, как быстро и ловко вскапывал лопатой поле М. Ал. и залюбовался им.
– Он может прокормить трех жен и десять человек детей, – заявил он.
И его натуральной философии нисколько не противоречило иметь этих трех жен и десять человек детей, раз он их может прокормить. Эта сторона его философии, как мне казалось, стала немножко отталкивать Льва Ник. Но его остроумная и беспощадная критика богатых людей и несправедливого экономического строя жизни могла действительно очень серьезно заинтересовать его собеседников.
Философ наш не только не признавал мебели, но почти не признавал и костюма, и его собственный нищенский костюм был, до некоторой степени, только уступкой полиции. Но случалось, что он сидел завернутый только в одно одеяло, но, к счастью, не выходил в таком виде в залу. Обуви он никогда не носил, и в холодные дни нам было очень жалко старика. Вместо подушки он спал на бутылке, находя, что подушка портит слух.
Однажды он захотел приготовить хлеб по своему методу.
– Лучше всего, разумеется, есть зерна сырыми, – говорил он, но как уступку человеческой слабости разрешал и печение хлеба. Муку же он толок сам из зерен. Принесли ему зерна, ступку, и он принялся за дело. Но бедный старик был так слаб, что и здесь пришлось ему помогать. Смешав приготовленную муку с водой, – молока старик тоже не употреблял, говоря, что его собственная мать уже умерла, – он приготовил какую-то лепешку и испек ее. лепешку подали к обеду, и Лев Ник., которому вреден был и хороший черный хлеб, увлекся и поел этой знаменитой, непропеченной, непромешанной лепешки.
На другой день с утра ему сделалось очень дурно. Поднялись боли в печени, стали проходить камни. Марья Львовна страшно взволновалась, и когда я хотела идти куда-то по делу, она не пустила меня.
– Не оставляй меня сегодня, пожалуйста, одну, – попросила она.
Я осталась.
Ужасный день провели мы. Боли у Льва Николаевича все усиливались и сделались совершенно невыносимыми. Он начал страшно стонать, Марья Львовна клала ему припарки из льняного семени; я изготовляла их; но, очевидно, помогали они плохо. Стоны все раздавались, и эти ужасные стоны просто терзали душу, а мы были, конечно, бессильны.
Так продолжалось несколько часов. Только к вечеру боли мало-помалу стали уменьшаться, стоны стихли, и, измученный страданиями, Лев Ник., наконец, заснул.
Марья Львовна послала телеграмму Софье Андреевне, и когда я ее спросила зачем, то она сказала мне, что во время такого припадка Лев Ник. может внезапно умереть. Когда на другое утро Лев Николаевич вышел в столовую, его нельзя было просто узнать, – так страшно изменился он за эти сутки. Тяжело было смотреть на его сразу похудевшее, смертельно бледное лицо, и мы невольно ходили и говорили тихо. Но к вечеру он немного повеселел, и у нас поднялся снова один из самых задушевных разговоров.
Вдруг у крыльца послышался звон колокольчика, затем какое-то движение, и с балкона в залу вошла Софья Андреевна. Все сразу стихли и как-то смутились.
Софья Андреевна приехала взволнованная, сердитая и стала расспрашивать, что случилось. Философ в это время мирно спал на полу, выставив как-то свои ноги. Софья Андреевна скоро заметила его.
– А это еще что за голые ноги?
Пришлось рассказать ей всю историю и познакомить с обладателем голых ног. Она просто возненавидела «грязного старика». Софья Андреевна осталась у нас на несколько дней и со своим хозяйственным уменьем стала приводить в порядок нашу довольно-таки беспорядочную жизнь. На столе снова появились чистые скатерти, обед сделался более обильным».
Были посетители и посетительницы и совсем иного рода. Раз приехали к нему две американки, одна из них ехала через Европу, другая через Азию. Они поехали разными дорогами и решили съехаться у Л. Н. Это и была единственная цель их путешествия. На вопрос Л. Н-ча, зачем они предприняли такое сложное путешествие, они обе радостно засмеялись и сказали: «Мы так и думали, что Leo Tolstoy скажет именно это». Лев Ник. пробовал наводить разговор на более серьезные темы, но он ясно видел, что их совсем не интересовало содержание того, что он говорил; они выслушивали и кивали головами. Л. Н-ч не выдержал этого разговора и уехал верхом ревизовать дальний участок. Но американки все-таки достигли своей цели.
Наконец, явились и посетители официальные.
4-го мая приехал ко Льву Н-чу в Бегичевку со свитой генерал Анненков, заведовавший правительственною помощью. Это посещение наделало много шума, но принесло мало плода.
Л. Н-ч так сообщает о нем С. А-не:
«Сейчас только мы проводили от себя заезжавшего к нам Анненкова со своей свитой – человек 20: Глебов, Кристи, Трубецкой и Костычев (друг Ге) и разные профессора, инженеры… не хочется осуждать, но нельзя не сказать, что странно».
Приезжали ко Л. Н. и английские квакеры, Bellows и Brooks, оказавшие большую помощь бедствующему населению в России. Кроме материальной помощи голодным, миссия их состояла в том, чтобы поддержать гонимых за веру. Они объезжали места ссылки русских сектантов и направлялись между прочим на Кавказ. Л. Н-ч дал им поручение посетить недавно сосланного туда князя Дм. Алек. Хилкова, что они с удовольствием и исполнили.
Это обилие посетителей из самых далеких стран заставляет Л. Н-ча записать в дневнике такую замечательную мысль:
«Когда видишь людей новых, таких, которых никогда не видал, хоть где-нибудь в Африке, в Японии: человек, другой, третий, еще и еще, и конца нет, все новые, новые, такие, каких я никогда могу не видать и никогда не увижу; а они живут такой же эгоистической, своей отдельной жизнью, как и я, – то приходишь в ужас, недоумение.
Что это значит? Зачем столько? Какое мое отношение к ним? Неужели я не видал их, и они мне чужие? Не может быть.
И один ответ: они и я – одно. Одно и те, которые живут, и жили, и будут жить, – одно со мною, и я живу ими, и они живут мною».
Наконец появился весенний отчет Льва Николаевича о его зимней деятельности.
В нем, кроме цифр, было литературное приложение, которое давало яркую картину деятельности Льва Николаевича за первые шесть месяцев.
Мы заимствуем из этого отчета несколько характерных черт. Л. Н-ч перечисляет несколько родов помощи, оказанной мм голодающим крестьянам. Таких родов помощи он насчитывает восемь:
«Первый, самый обширный род помощи был столовые. Их устройство уже описано на предыдущих страницах. Их ко времени отчета (март) было 187 и в них кормилось около 10000 человек. Другое дело наше, – говорит в своем отчете Л. Н-ч, – в последние зимние месяцы состояло в доставлении дров нуждающемуся населению. Третье дело наше было кормление крестьянских лошадей. В продолжение последних двух месяцев было прокормлено 276 лошадей. Четвертое дело наше составляла раздача льна и лык для работ и бесплатно – нуждающимся в обуви и холсте. Льна было роздано около 300 пудов. Лыка около 200 пудов.
Пятое дело наше, начавшееся в феврале, состояло в устройстве столовых для самых маленьких детей, от нескольких месяцев, грудных и до 3-летних. Шестое дело, которое теперь начинается и которое, вероятно, так или иначе будет окончено, когда этот отчет появится в печати, состоит в выдаче нуждающимся крестьянам на посев семян овса, картофеля, конопли, проса.
Покупка лошадей и раздача их составляет седьмое дело. Восьмое дело наше было продажа ржи, муки и печеного хлеба по дешевым ценам.
Кроме этих определенных отделов, на которые употреблялись и употребляются пожертвованные деньги, небольшие суммы употреблены нами прямою выдачею нуждающимся на неотлагаемые нужды: похороны, уплаты долгов, на поддержание маленьких школ, покупку книг, постройки и т. п.; таких расходов было очень мало, как это можно видеть из денежного отчета.
Таковы, в общих чертах, были наши дела за прошедшие шесть месяцев. Главным делом нашим за это время было кормление нуждающихся посредством столовых. В продолжение зимних месяцев эта форма помощи, несмотря на злоупотребления, встречающиеся при этом, в самом главном, в том, что она обеспечивала все беднейшее и слабейшее население – детей, стариков, больных, выздоравливающих – от голодания и дурной пищи, вполне достигала своей цели».
Денежная отчетность в круглых цифрах выразилась так: было получено 141 тысяча, истрачено 108 тысяч. Осталось к апрелю месяцу 33 тысячи.
Настроение Л. Н-ча не всегда было бодрое и радостное. Нередко, утомившись более нравственно, чем физически, он видимо страдал, и как ни терпелив он был, но иногда это чувство боли выражалось ярко в письмах к друзьям. Так, он писал в конце февраля Н. Н. Ге-молодому:
«Измучился я, голубчик, от этой деятельности, не физически, но нравственно. Если было сомнение в возможности делать добро деньгами, то теперь его уж нет – нельзя.
Нельзя тоже и не делать того, что я делаю, т. е. мне нельзя. Я не умею не делать. Утешаюсь тем, что это я расплачиваюсь за грехи свои и своих братьев и отцов. Тяжесть в том, что не веришь в добро материальной помощи и что главный труд есть не доброе отношение к людям, а напротив – злое, недоброе по крайней мере: удерживаешь их в их требованиях, попрошайничестве, уличаешь в неправде и вызываешь в них недобрые чувства; не только в них, но и сплошь и рядом и в себе».
Лев Николаевич, кроме этой, утомлявшей его своей суетой, внешней деятельности, был полон еще и внутренним содержанием. Эта сторона его жизни ярко отразилась в записках его дневника и его записной книжки того времени. Приведем здесь несколько наиболее ярких и ясных выражений его внутреннего переживания:
Вот мысли из дневника, записанные весной 1892 года:
«Я стал торопиться молиться, сделал из этого такую привычку, что стал говорить себе: надо поскорее помолиться, чтобы потом пить кофе и разговаривать с NN…
Поспешить отделаться от Бога, чтобы заняться Иван Иванычем.
Если молитва не есть важнейшее в мире дело, – такое, после которого нет ничего, – то это не молитва, а повторение слов.
От сна пробуждаешься в то, что мы называем жизнью, в то, что предшествовало и следует за сном. Но и эта жизнь не есть ли сон? А от нее смертью не пробуждаешься ли в то, что мы называем будущей жизнью, в то, что предшествовало и следует за сновидением этой жизни?
В сновидении, во сне мы живем теми впечатлениями, теми чувствами, которые даны нам предшествующей жизнью, той самой, в которую мы возвращаемся, просыпаясь. Так же и в том, что мы называем настоящей жизнью, мы живем теми данными и той «кармой», которые мы занесли из предшествующей жизни, той самой, в которую мы возвращаемся.
Как сон настоящий есть период, во время которого мы набираемся новых сил для движения вперед в той жизни, в которую возвращаемся пробуждением, так и эта жизнь есть период, в который мы набираемся новых сил для движения вперед в той жизни, из которой мы вышли и в которую возвращаемся.
Бывает во сне кошмар, от которого мы пробуждаемся особым усилием воли. Не то ли и отчаяние, от которого спасаются самоубийством?
Но и вся предшествующая этой жизни жизнь и последующая, в которую мы переходим смертью, со своим срединным сновидением того, что мы теперь называем жизнью, не есть ли, в свою очередь, только одно сновидение, точно так же предшествуемое другой, еще более реальной жизнью, в которую мы и возвращаемся? И так далее, до последней степени бесконечной реальности жизни – Бога».
«Враги всегда будут. Жить так, чтобы не было врагов, нельзя. Напротив, чем лучше живешь, тем больше врагов.
Враги будут; но надо сделать так, чтобы не страдать от них. И можно сделать. Делать так, что враги не только не будут страданием, но будут радостью.
Надо любить их и это легко.
Я один, а людей так ужасно бесконечно много, так разнообразны все эти люди, так невозможно мне узнать всех их, – всех этих индейцев, малайцев, японцев, даже тех людей, которые со мной всегда, – моих детей, жену… Среди всех этих людей я один, совсем одинок и один. И сознание этого одиночества и потребности общения со всеми людьми и невозможности этого общения достаточно для того, чтобы сойти с ума.
Одно спасение – сознание внутреннего, через Бога сношения со всеми ими. Когда найдешь это общение, перестает потребность внешнего общения».
«Когда проживешь долго, как я 45 лет сознательной жизни, – то понимаешь, как ложны, невозможны всякие приспособления себя к жизни. Нет ничего «stable» в жизни. Все равно как приспособляться к текущей воде.
Все – личности, семьи, общества, все изменяется, тает и переформировывается, как облака. И не успеешь привыкнуть к одному состоянию общества, как его уже нет и оно перешло в другое.
Как религия, которая считает себя абсолютной непогрешимой истиной, есть ложь, так и наука.
Говорят о соединении науки и религии. Только бы и та и другая не держались бы внешнего авторитета, и не будет разделения; а религия будет наука, наука будет религия».
А вот записи из его карманной записной книжки:
«Государственная форма отжита – все три функции – осталась последняя и держится, как и может держаться, насилием. И насилие кажется непреоборимо насилием, но есть другое – есть внутренний рост.
Думаю часто – спасение произойдет ужасами, революцией, постепенно – нет. И не было бы спасения, если бы правительства могли остановить рост сознания – нового жизнепонимания. Правительства могут всех обобрать, всех убить, всех слабых подвергнуть гипнотизации, но не могут остановить роста. Чем больше они гипнотизируют, тем энергичнее рост – контраст, чем больше накладывать дров, тем ярче горит и тем труднее погасить. Спасенье не извне, а изнутри. Царство Божие внутрь вас есть. И спасенье наступило.
Когда видите – ветки смоковницы стали мягки, значит близко при дверях. И лето близко. Правительство существует, как атавизм, – отжило – как оболочка семени, сдерживающая лепестки. Насилие не нужно. Нужно только рост, и жизнь изменится. Насилия ведь нет. Это сон. Нужно очнуться.
Не делайте вида, что вы меня судите. Вы – разбойники. Я вас судил и осудил. Я живу для распространения (истины). Все, что вы мне сделаете, польза этому делу, а, следовательно, и мне».
«Часто говорят: дело рассудка. Да, несогласие окружающего с требованиями совести – дело рассудка. Несогласие своей жизни с требованиями разума – дело любви.
Я долго не верил сам себе, что религия официальная есть антирелигия. Но пришлось поверить. То же теперь относительно образования.
Остроги, войска, полиция нужны, чтобы поддерживать существующий порядок. А порядок этот дурен, мы сами сознаем это.
Религия не есть то, во что верят люди и наука, не то, что изучают люди; а религия есть то, что дает смысл жизни, а наука то, что нужно знать.
Красота вытекала из языческого миросозерцания. Христос не сказал: есмь жизнь, будь и красота.
Всего меньше мы понимаем поступки друг друга, те, которые вытекают из тщеславия: не угадаешь, чем и перед кем он тщеславится.
Если кто сомневается в нераздельности мудрости и самоотвержения, тот пусть посмотрит, как сходятся с другого конца глупость и эгоизм.
Есть две улыбки. Одна – радости, другая насмешливости а) над другими, б) над собой, почти стыда.
Бывает, что защищает с раздражением истину, кажущуюся неважной. Тебе кажется только кирпич, а для него это замок свода, на котором построен его дом».
Летом, в июле, завершился один важный акт семейной жизни Л. Н-ча. Был окончен раздел имущества. Как все вопросы, связанные с собственностью и деньгами, и этот вопрос о разделе явно тяготил Л. Н-ча. Мы уже упоминали о том, как он относился к нему. Новые, хотя окончательные уже формальности опять всколыхнули в нем эти тяжелые чувства, и он жалуется друзьям своим в письмах, что ему это время было тяжело и мучительно. Но так как это было уже общее заключение дела, то оно вместе и дало ему некоторое удовлетворение.
В июле же был закончен Л. Н-чем и сдан в печать отчет о ведении всего дела. В этом отчете Л. Н-ч дает уже общий обзор деятельности всего года, из которого мы видам, что под руководством Л. Н-ча в 4-х уездах (Епифановском, Ефремовском, Данковском и Скопинском) действовало 246 столовых для взрослых и 124 для детей; в них кормилось 13000 взрослых и до 3000 детей. В этом же осеннем отчете Л. Н-ч так определяет положение народа:
«На вопрос об экономическом положении народа в нынешнем году я не мог бы с точностью ответить. Не мог бы ответить потому, во-первых, что мы все, занимавшиеся в прошлом году кормлением народа, находимся в положении доктора, который бы, быв призван к человеку, вывихнувшему ногу, увидал бы, что этот человек весь больной. Что ответит доктор, когда, у него спросят о состоянии больного? О чем хотите вы узнать? – переспросит доктор. – Спрашиваете про ногу или про все состояние больного? Нога ничего, нога простой вывих – случайность, но общее состояние нехорошо.
Но и кроме того я не мог бы ответить на вопрос о том, каково положение народа: тяжело, очень тяжело или ничего? потому что мы все, близко жившие с народом, слишком пригляделись к его понемножку все ухудшавшемуся и ухудшавшемуся состоянию.
Если бы кто-нибудь из городских жителей пришел в сильные морозы в избу, топленную слегка только накануне, и увидал бы обитателей избы, вылезающих не с печки, а из печки, в которой они, чередуясь, проводят дни, так как это единственное средство согреться, или то, что люди сжигают крыши домов и сени на топливо, питаются одним хлебом, испеченным из равных частей муки и последнего сорта отрубей, и что взрослые люди спорят и ссорятся о том, что отрезанный кусок хлеба не доходит до определенного веса на восьмушку фунта или то, что люди не выходят из избы, потому что им не во что одеться и обуться, то они были бы поражены виденным. Мы же смотрим на такие явления, как на самые обыкновенные. И потому на вопрос о том, в каком положении народ нашей местности, ответит скорее тот, кто приедет в наши места в первый раз, а не мы. Мы притерпелись и уже ничего не видим».
И, наконец, Л. Н-ч делает ко всему отчету такое заключение:
«Так что же? Неужели опять голодающие? Голодающие! Столовые! Столовые! Голодающие! Ведь это уже старо и так страшно надоело.
Надоело вам в Москве, в Петербурге, а здесь, когда с утра до вечера стоят под окнами или в дверях, и нельзя по улице пройти, чтобы не слышать одних и тех же фраз: «Два дня не ели, последнюю овцу проели. Что делать будешь? Последний конец пришел. Помирать, значит?» и т. д., – здесь, как ни стыдно в этом признаться, это уже так наскучило, что, как на врагов своих, смотришь на них.
Встаю очень рано; ясное морозное утро и с красным восходом; снег скрипит на ступенях; выхожу на двор, надеюсь, что еще никого нет, что я успею пройтись. Но нет; только отворил дверь, уже стоят двое: один высокий, широкий мужик в коротком оборванном полушубке, в разбитых лаптях, с истощенным лицом, с сумкой через плечо (все они с истощенными лицами, так что эти лица стали специально мужицкие лица). С ним мальчик лет 14, без шубы, в оборванном зипунишке, тоже в лаптях и тоже с сумой и палкой. Хочу пройти мимо, начинаются поклоны и обычные речи. Нечего делать, возвращаюсь в сени. Они всходят за мною.
– Что ты?
– К вашей милости.
– Что?
– К вашей милости.
– Что нужно?
– Насчет пособия.
– Какого пособия?
– Да насчет своей жизни!
– Да что нужно?
– С голода помираем. Помогите сколько-нибудь.
– Откуда?
– Из Затворного.
Знаю, что это скопинская нищенская деревня, в которой мы еще не успели открыть столовой. Оттуда десятками ходят нищие, и я тотчас же в своем представлении причисляю этого человека к нищим профессиональным, и мне досадно, что и детей они водят с собой и развращают.
– Чего же ты просишь?
– Да как-нибудь обдумай нас.
– Да как же я обдумаю? Мы здесь не можем ничего сделать. Вот мы приедем…
Но он не слушает меня. И начинаются опять сотни раз уже слышанные одни и те же, кажущиеся мне притворными речи: «Ничего не родилось, семья 8 душ, работник я один, старуха померла, летось корову проели, на Рождество последняя лошадь околела, уж я куда ни шло, ребята есть просят, отойти некуда, три дня не ели!» Все это обычное, одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он все говорит: «Думал, как-нибудь пробьюсь, да выбился из сил. Век не побирался, да вот Бог привел».
– Ну, хорошо, мы приедем, тогда увидим, – говорю я и хочу пройти и взглядываю нечаянно на мальчика.
Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптанный снегом дощатый пол. И милое измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком крутом головы русыми волосами дергается все от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца – старая избитая канитель. А ему – это повторение той ужасной годины, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи, умиляют его, потрясают его расслабленные от голода нервы. А мне все это надоело, надоело; я думаю только, как пройти поскорее погулять!
Мне старо, а ему это ужасно ново.
Да, нам надоело. А им все так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел это по его прелестным, устремленным на меня, полным слез глазам, – хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику».
И на этот раз, конечно, Л. Н-ч не мог прекратить этого дела. Посетив Л. Н-ча летом, я заметил, что дело это сильно, и физически, и нравственно, утомило Л. Н-ча. Так как в эту зиму предполагалось вести дело в значительно меньших размерах, то я и предложил Л. Н-чу свои услуги по ведению дела, конечно, под его руководством. Л. Н-ч с радостью принял это мое предложение, и я уехал к себе на хутор ждать этого «назначения».
27 июля Л. Н-ч написал мне письмо, приглашая приехать и принять в свое заведование продолжение помощи. Я не замедлил приехать и прожил в Бегичевке всю зиму 1892–1893 годов, с небольшими перерывами. Л. Н-ч с дочерьми нередко навещал меня, давая советы, исправляя и направляя мою работу и моих помощников. Насколько это время и это дело отразилось на Л. Н-че, я расскажу в следующей главе.
Глава 15. Вторая голодная зима. Царство Божие
Наступила вторая голодная зима 1892–1893 годов. Пространство России, постигнутое на этот раз неурожаем, было значительно меньше, но зато там, где пришлось второй раз пережить это тяжелое время, было во много раз труднее. Истощенные предыдущими плохими годами и сошедшие на нет в прошлую, голодную зиму, они уже не могли сопротивляться стихийному бедствию. И в тех местах, где прежде кормили, теперь лечили и часто хоронили истощенных до смерти могучих работников-пахарей. Они покорно подставляли свои согбенные спины и безропотно умирали от голодного, сыпного тифа.
Одна из характерных особенностей сыпного тифа это его заразительность, которая распространяется не только на само население, но и на медицинский персонал. Заболевают доктора, фельдшера, сиделки. На моих глазах таких случаев было много и в прошлую зиму в Самарской губернии, и с этим пришлось столкнуться в эту следующую зиму в Рязанской губернии. Как только появилась эпидемия сыпного тифа близ Бегичевки, осенью 1892 года, пришлось организовать медицинскую, а главное – санитарную помощь. Пришлось приискивать помещения, куда отделять больных, улучшая, облегчая обстановку их жизни, усиливая питание. А главное – найти людей, готовых самоотверженно идти на борьбу с эпидемией, с явной опасностью болезни и смерти. Это было не так-то легко.
Вследствие уменьшения размеров бедствия, вследствие охлаждения прежнего пыла пожертвований в русском и заграничном обществе, вследствие стремления руководящих классов поскорее заявить о том, что теперь «все благополучно», приток пожертвований и предложение личных услуг значительно ослабели.
Льву Николаевичу, утомленному прошлой зимой, нужен был отдых, да его присутствие при уменьшенных размерах помощи и не было необходимо. Поручив мне руководить делом помощи, он, конечно, продолжал стоять во главе дела, приезжал в Бегичевку, давал дальнейшие указания и печатал отчеты о нашей деятельности.
Кроме земской медицинской помощи на эпидемии тифа, была организована помощь и при участии Л. Н-ча. Ходить за больными под руководством земского врача приехала родственница Л. Н-ча, жена брата Софьи Андреевны, Марья Петровна Берс. Несчастливая в своей семейной жизни, она с радостью пошла на это дело, готовая отдать свою жизнь, которою она мало дорожила.
Она поселилась в избе, ухаживала за больными и вскоре заразилась сыпным тифом. Тогда ее перевезли в Бегичевку, в дом Раевских, и делали все, что можно было делать в борьбе с этой болезнью. Она не выдержала и умерла спокойно, сознательно, с чувством исполненного долга 20-го октября 1892 года.