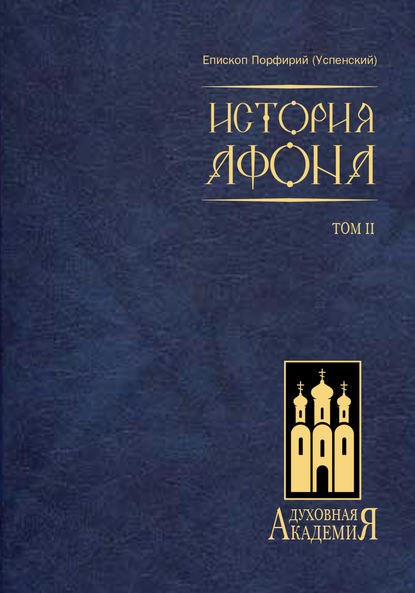Полная версия
Собрание сочинений. Том II
Не будем возражать против подобного учения, а спросим: в тех случаях, когда самоценное значение добра недостаточно сильно, чтобы удержать нас на высоте, то какое побуждение выше: мысль ли о выгоде или мысль о Всеблагом Боге? Если, например, ребенок, обиженный товарищем, сразу потерял к нему прежнюю любовь, и маленькое его сердце пылает злобой, то какою мыслью благороднее будет ему воздержаться: тою ли, что ему невыгодно приколотить товарища, ибо, приучась быть злым, он себе наделает много печалей, или воспоминанием о том, что мать ему не велела никого обижать? На этот вопрос при всей его ясности надо, однако, отвечать не сразу: ответ будет зависеть от того отношения, которое имеет ребенок к матери: если он боится ее наказаний, то послушание небольшая еще добродетель; но если он удерживается от зла ради любви к ней, ради трудов и печалей, которые она для него перенесла, если, стало быть, человек подавляет свою злобу или чувственность не из страха перед Богом, но ради любви к небесному Отцу, к Его единородному Сыну, нашему Господу, Который из любви к нам принял бренную плоть, подвергся ужасным мукам и, воскреснув из мертвых, все-таки не покинул нас, но живет невидимо между нами, если, таким образом, не страх, а любовь к Богу будет направлять нашу волю и приводить ее к сознанию внутреннего значения добра, – то неужели такое побуждение мы сочтем низшим, чем выгоду? Пусть сравнивает каждый нравственное достоинство православного и нового учения; пусть ознакомится с первым в подробностях через чтение отеческих учений о «состоянии сыновства», когда люди воздерживаются от зла во имя любви к Богу. Она не подавляет, не изгоняет сознание внутренней самоценности добра, но поддерживает ее и возвышает через раскрытие той истины, что это добро, этот смысл жизни, этот истинный разум, это слово Божие не есть наше минутное произвольное сознание, но что оно было «в начале», что она, эта любовь, не есть отвлеченная идея, но живой Бог, что Он открыл Себя в Своем Слове от века, что это Слово не осталось вдали от людей, но стало плотью и поселилось между нами, даруя всем благодать и истину. Вот здесь-то первое существенное разногласие между нашим Евангелием и переделанным, что последнее отрицает личного, живого Бога, думая, будто признание Его сделает человеческую добродетель принужденною, внешнею. Оказывается, что Церковь, признавая вопреки новому евангелию личного Бога – Творца, личный мировой разум – Сына Бо-жия, воплотившегося от Девы, личного возбудителя в нас духовной жизни – Святого Духа, признавая Святую Троицу, существующую независимо от нашего сознания, тем не менее признает не внешнего Бога, но внутреннего, ибо научает любить Его и говорить о Его любви к нам, а любовь есть то начало, которое соединяет раздельное; она, далее, признает не внешний закон, а внутренний, ибо требует не дел закона, а любви, исходящей из сердца, а не из внешнего послушания Богу, которое только эту сердечную любовь осмысливает и утверждает. Напротив, новое учение желало бы утвердить добрые дела на одном только расположении души, забывая греховность нашу и совершенную случайность наших расположений. Но не возвышает ли в конце концов и сам автор переделанного евангелия начала нравственности над случайным настроением? Возвышает. Его евангелие начинается следующими словами: «возвещение Иисуса Христа заменило веру во внешнего Бога разумением жизни. Евангелие есть возвещение о том, что начало жизни не есть внешний Бог, как думают люди, но разумение жизни». Первую главу от Иоанна он читает: «в основу и начало всего стало разумение жизни. Разумение жизни стало вместо Бога. Разумение жизни есть Бог». «Христос – это то разумение, которое есть в нас» – говорится у него в другом месте – к Евангелию от Матфея (см. к Мф. 22, 43). Далее выясняется, что подобное убеждение достигается через исполнение заповедей. Обетование Иисуса Христа ученикам о ниспослании Святого Духа в этом евангелии значится так: «Наставником вашим после Меня будет ваше знание истины. Исполняя Мое учение, вы будете всегда чувствовать, что вы в истине».
Итак, по этому учению, не личный Бог есть безусловное начало всего, обосновывающее всякую истину, но какое-то разумение жизни. Православие и все христианские исповедания учат, что, действительно, разумение жизни было до нас, что не мы можем сочинять жизнь, но истинная жизнь была до нас. Но они не говорят, что это разумение исключает личного или, как выражается автор, внешнего Бога. Какой же мировой разум – личный или безличный – может служить лучшим побуждением к добродетели? Личного, Всеблагого Творца и Искупителя мы любим, и этою любовью, этой верой в Него побеждаем зло. Возможно ли любить безличный мировой разум, который только в людях достигает своего сознания? Новое евангелие прямо отвечает: нет. В объяснение к Евангелию от Иоанна (см. Ин. 4, 20) написано: «Мы любим не Бога, которого нельзя любить, а брата, которого можно любить. Итак, нам дана заповедь любить Бога в брате своем» (ср. толк. к Мф. 22, 37–40). Но если я брата в данную минуту ненавижу, то как же мне любить Бога? Да и возможно ли любить не личного Бога, когда любовь, по определению всех психологий, есть чувство по преимуществу личное? Личность и любовь связаны в новейшем сочинении автора. «Что такое “я”? – спрашивает он и отвечает. – Ваше “я” познается из любви. Свойство больше или меньше любить и есть особенное “я” человека». Может ли безличный Бог любить? В переделанном евангелии есть упоминание о Его любви к людям, но это есть не чувство любви, а скорее самый творческий процесс, состоящий в даровании нам духа жизни, жизни духовной, поэтому и любовь Божия в этом смысле распространяется не на всех без различия, а только на живущих духовною жизнью: «Кто не исполняет Моего учения, – говорит Иисус в этом евангелии (к Ин. 14, 24), – того не может любить Мой Отец». Итак, если последователь его согрешил, но хочет победить свою страсть, то он не только не может себя укрепить мыслью о любви Бога ко всякому грешнику, Его милосердии ко всякому падающему; не только он не видит своего Небесного Отца, идущего навстречу блудному сыну, но он знает, что то отвлеченное понятие о разумении жизни, которое ему заменило Бога, что оно теперь от него удалилось, стало ему чуждо… Судите теперь, какое учение о Боге – православное или новое – может скорее содействовать добродетели? Судите, какой Бог есть внешний для нравственной воли человека: Бог ли личный, Всеблагий Искупитель, или Бог безличный, разумение жизни, сознаваемое в душе человека только во время ее просветленного благожелательного настроения?
Но спрашивается: неужели это вечное, безусловное, хотя и безличное, разумение совершенно чуждо воздействий на нравственную волю человека? Этого нельзя сказать. Оно вносит в нее ту идею, что любовь не есть только наше произвольное настроение, но основная идея мировой жизни, что нравственный закон есть закон безусловный: в этом заключается и мораль Канта по его «Критике практического разума». Эта идея не согревает нашего сердца, но возбуждает уважение к добру. Об этом всемирном значении блага, кроме указанных мест, есть еще много рассуждений во всех новейших сочинениях нашего автора. Следовательно, он признает связь между добродетелью и основными началами; следовательно, Церковь тем фактом, что, раскрывая эти начала, учила о них, нисколько не изменила нравственному содержанию христианства; следовательно, догматы необходимы для нравственности, лишь бы они были догматы истинные, обосновывающие настоящую нравственность, а не ложную, внешнюю. Не в том беда, что существуют догматы – все они суть требование нравственного христианского сознания, как уясняется у всех отцов[2]. Зло в том, если изучать эти догматы вне их отношения к добродетели, как простые логические формулы. Не удалять их следует от добродетели, но на них утверждать последнюю. Закон Христов – в любви, но «проявлять любовь», по Толстому, «невозможно людям, не понимающим смысла жизни. Настроение любви представляется им не сущностью жизни человеческой, но случайным настроением». Вот еще подтверждение связи нравственности и догматических истин.
Отрицая в Боге личность, новое евангелие, естественно, отрицает и Промысел Божий, или непрестающее попечение Небесного Отца о чадах Своих – людях: «Бог не правит нами, – читаем в новом евангелии, – но как сеятель бросает семена, а сам и не думает о них»; и дальше: «Бог, пока люди живут, не вступается в их жизнь» (толк. к Мф. 13, 33). Да, впрочем, как же и могла бы действовать в жизни безличная идея? Как возможно учение о Промысле при отрицаемой личности в Боге? Итак, последователи нового евангелия суть брошенные на произвол судьбы люди, которые, пока могут иметь разумение жизни, то живут им, но когда потеряют его, то уже никто и ничто не может помочь им. Вера в пострадавшего за нас Искупителя, молитва Ему о помощи для них недоступны; напротив, они прямо учат, что молиться не надо вовсе, а нужно служить Богу добрыми делами.
Но если православное представление личного Бога, действительно, благодетельное для нравственной жизни, то, может быть, оно неудобоприемлемо для мысли, может быть, последняя только и может примириться с учением о безличной, абсолютной идее, о высоком разумении жизни вместо Бога? Личная ли религия Церкви, которая не знает разума без Разумеющего, любви без Любящего, спасения без Спасителя, возрождения без Духа Освятителя или учение нового евангелия, исключающего личность из нравственных понятий, более соответствует истине? Непосредственное наше сознание и философия всех школ говорит, что нравственное тем и настолько отличается от всего, не входящего в область морали, что первое теснейшим образом связано с идеей личности. Ни дереву, ни воде, ни представлению, ни чувству не могу я приписать никакого нравственного или противонравственного признака. «Нет ничего, что бы я мог назвать добрым, – говорит Кант, – кроме воли личного существа». Только в личности находится корень нравственности, добра.
Разумение жизни было всегда, но кто был разумеющий? Божество, живущее в людях. Итак, вне людей нет разумения: оно только в них, и то во время их доброго настроения. Это ли вера в безусловное значение добра, когда его нет нигде вне наших идей? Этот полнейший субъективизм (произвольность) религии простирается так далеко, что автор считает совершенно нелепостью мысль о том, чтобы нравственный миропорядок отражался и на природе материальной. Он совершенно разделяет мир внутренний от внешнего, признает два совершенно отдельных рождения человека по плоти и по духу и, допуская мысль о подчинении духа плоти, с ужасом отвертывается от тех рассказов Евангелия, в которых изображается подчинение материи нравственному началу, т. е. о чудесах. В этих рассказах Евангелие показывает, что все под солнцем подчиняется не физической, но нравственной цели, и если последняя того требует, то разверзается глубина моря, останавливаются светила небесные, звезды указывают путь к Солнцу правды, море и ветер слушаются Его гласа.
Не так по переделанному евангелию: там слепая мертвая необходимость царит над жизнью; плоть и материя чужды послушания духа; она, эта плоть, носит в себе начало всякого зла, и только сознающий смысл жизни побеждает зло через отрешение от жизни плотской. Поэтому если понизится настроение духа человека, если закрадется в его душу сомнение относительно действительности жизни духа, то ничто его не поддержит. Ни в жизни настоящей, ни в истории не увидит он действующей руки Творца вне произвольного настроения людей. Только плоть и смерть без воскресения предстанут его мысленному взору. В минуты нравственного просветления он может сознавать, что это добро вечно, что хотя он как личность умрет и исчезнет, но присущая ему духовная жизнь сольется со своим вечным началом; а теперь, когда он усомнился в действительности этой духовной жизни, ему кажется, что если она только существует в людях, то с истреблением человеческой личности истребляется и все доброе в ней, насколько добро существует только в личности. Мрачный пессимизм и материализм являются ничем не опровержимыми для него теориями, и он с ужасом видит, что и впредь от минутного его настроения будет зависеть, считать ли дух основой всего или материю; последняя всегда перед ним – смерть не отступает от его взоров – а дух и самоотвержение и любовь он сознает лишь в минуты просветления. Нужно ли, напротив, подробно объяснять на жизненных примерах, насколько вера в личное бессмертие возвышает дух человека над искушениями минуты? Взглянем на народ наш, который тверже господ убежден в загробном воздаянии. Не страх и не корысть руководит им при мысли о воздаянии, но ясное сознание призрачности этой жизни и истинности той. Отцы Церкви учили, что рай и ад начинаются в душе человека здесь, на земле, смотря по его настроению, а смерть только откинет потемнение его разума плотью, и нравственный облик отразится после смерти с полною ясностью.
Следовательно, личное бессмертие, не зависящее от нашего настроения, есть верное побуждение к борьбе со злом, а бессмертие безличное как произвольное чувство не может служить побуждением. Проповедуя веру в Бога, в голос нашей совести и вечную жизнь и указывая в этом всю цель нашего земного существования, новое учение этим не разнится от Православия, а разнится тем, что признает все эти три верования произвольными, беспредметными; отрицая личного Бога, личность и свободу человека и личное бессмертие, оно предлагает веру в такие начала, которые само же уничтожает.
Итак, мы сравнили новое евангелие со старым по отношению к нравственной жизни в следующих пунктах: 1) в вопросе о потребности или ненужности догматов; 2) в вопросе о личном или безличном Боге; 3) в вопросе о Промысле или физической необходимости и 4) в вопросе о вечности жизни, – или, обобщая три последние вопроса, в личном или безличном характере рождения, жизни и бессмертия человеческого.
Христос – Спаситель
Прошлый раз мы исследовали нравственное достоинство верований Православной Церкви сравнительно с идеями переделанного евангелия. Мы видели, что вера в личного Бога, в Его Промысел и в личную вечную жизнь человека составляет необходимое побуждение человеку бороться со своею злою волею и покорять свои злые стремления добрыми. Мы видели, что, признавая вместо Бога безличное разумение жизни, человек только до тех пор может ему подчиняться, пока находится в добром настроении, но когда его ум обуревают плотские или духовные страсти, когда разумение жизни ими помрачается, то, не признавая вне своего разума никакой самодовлеющей истины, человек остается при чистейшем материализме, при неопровержимом ничем нигилизме.
Как бы кто ни рассуждал о значении нравственности, но, по общему опыту людей и по признанию как старой, так и новой веры, полное совершенство достигается человеком с великим трудом, посредством многолетней борьбы, победителем из которой выходит далеко не всякий. Поэтому главное достоинство всякого учения не столько в том состоит, чтобы указать совершенство добродетели, сколько в том, чтобы дать достаточно сильных побуждений стремиться к этому совершенству.
Но если переделанное евангелие не дает таких побуждений в своем учении о Боге и человеке, то, может быть, его учение о личности и искупительном деле Иисуса Христа изобильно восполняет недостатки? Может быть, действительно, в этих пунктах оно является возвышеннее, чем Православие?
Заслуга Господа нашего Иисуса Христа, по новому учению, заключается в том, что Он открыл людям разумение жизни. Но если весь смысл жизни, согласно этому учению, написан на сердцах людей и заключается в исполнении пяти заповедей, то что особенного сделал Иисус Христос, кроме того, что, как выражается автор, «выяснил наилучшим образом приложение этих заповедей к быту человеческому?» И, действительно, по другому сочинению автора выходит, что христианство не в Христе, а в пяти заповедях, независимо от их происхождения. Представьте себе добродушного семьянина в сельской жизни, которому не приходится воевать, судиться и присягать, которому всего довольно, и он никого не обижает – вот вам и высший идеал христианства по переделанному евангелию. Но не заключается ли в этой его отрешенности от лица Иисуса Христа и его высшее нравственное достоинство? Так и хочет представить дело автор, когда говорит, что Церковь освободила человека от обязанности жить добродетельно, убедив его, что все грехи за него совершил Адам, а все освящение он получит совершенно независимо от своего настроения, благодаря воплощению и страданию за него Сына Божия. Итак, по новому учению, то обстоятельство, что Церковь ставит подвиг нашего спасения в тесную связь с подвигом Иисуса Христа, является как бы унижением самого подвига.
Сами догматы грехопадения, воплощения, искупительной смерти, воскресения и ниспослания Святого Духа являются, по этому учению, пустыми баснями, выдуманными людьми для освобождения себя от исполнения пяти заповедей посредством перенесения всего на Бога. Но посмотрим, не признает ли некоторой, хотя относительной, связи между добродетелью и страданиями Христовыми и переделанное евангелие. Да, признает, и она выяснена в толковании прощальной беседы Господа.
По смыслу этого отрывка, «смерть Иисуса», как принятая за засвидетельствование истины, «нужна для утверждения истины. Смерть Его, при которой Он не отступает от истины, утвердит учеников, и они поймут, в чем ложь и в чем истина; ложь в том, что люди верят плотской жизни и не верят в жизнь духа, а истина в соединении с Отцом и что из этого выходит победа духа над плотью. Когда Его не будет, то дух Его будет с учениками» (толк. к Ин. 14). Итак, вольная смерть Иисуса Христа за свое учение – необходимое условие для того, чтобы дух этого учения вселился в души его учеников, чтобы они ясно увидели силу истины пяти заповедей, увидели их жизненное значение, а не отвлеченную только правду.
Посмотрим теперь, чей пример может быть действительнее для подвига добродетельной жизни – нашего ли Христа или новоизмышленного. Конечно, некоторое значение в этом смысле может Он иметь и по этому новому представлению о Нем. Мы видели выше, что мысли о безличности Бога не могут подкрепить борющуюся со злом волю человека, а потому, если она поддерживается примером праведника, который жизнь свою положил за идею и оставался ей верен во время своего земного существования, то, конечно, пример этот оказывает не последнюю услугу добродетели. То же значение имеет, между прочим, и православное представление подвига Христова, по слову апостола: с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест (Евр. 12, 1–2). Пример подвига Господа Иисуса должен воздействовать на последователей и нашего, и переделанного евангелия, но на кого сильнее? На тех, кто представляет Его подвиг возвышеннее, Его истину светлее, Его жизнь беспорочнее. По учению Православия, Господь имел свободную человеческую волю, но побеждал все искушения греха, ни на минуту не поддаваясь искушениям; так же ли велик Его подвиг по переделанному евангелию? Так же ли беспорочно Его учение? Посмотрим. Прежде всего, почему Иисус Христос исповедал Себя Сыном Божиим, по той ли причине, что Он и был воплотившийся Разум, Слово Божие, истинный Бог, как говорится в молитве непотерпевший видеть мучимого грехом рода человека и принявший зрак раба для того, чтобы нас освободить от рабства, или по другой причине? По новому учению, Он был простой человек, не знавший своего отца и привыкший с детства называть отцом Своим Бога. Вот из какой неприглядной случайности начало сыновства по новому учению. Затем, в возрасте 30 лет, Иисус пришел к Иоанну Крестителю, и ему полюбилась проповедь его о милосердии и человеколюбии, о победе духовной жизни над плотскою. Но не сразу, будто бы, понял ее сущность Иисус. В сочинении «Ma religion» говорится, что Он сначала представил себе торжество духа над плотью в том, чтобы ничего не есть, и с этой целью томил себя голодом, как мог, даже думал вовсе уничтожить свое тело через самоубийство; но, размыслив, Иисус понял, что надо подчиняться необходимым влечениям плоти, потому что такова воля Божия, – и начал проповедовать Свое учение. Когда Его решили предать смерти за Его учение, когда именно Иуда пошел за стражей, чтобы схватить Иисуса, то, по словам переделанного евангелия, «на Него напал страх, и он с учениками пошел в сад, чтобы скрыться». Ученики обещали Его защитить, на что Он отвечал: «Если так, то приготовьтесь к защите, наберите с собою запасы, потому что придется скрываться, и заберите оружие, чтобы защищаться. Ученики сказали, что у них есть два ножа. И когда Иисус услыхал это слово о ножах, на него напала тоска».
Когда за идею умирает человек непоколебимый, то он этим внушает к себе уважение, но еще не обусловливает твердости своих последователей, потому что им часто может прийти мысль: а может быть, он, при всей своей искренности, заблуждался, как многие изуверы, терпевшие мученическую смерть за самые безумные заблуждения. Но если за идею пошел на смерть человек, встретившийся с нею случайно, понявший ее после различных нелепых попыток самых странных ее приложений, если он, когда пришлось за нее пострадать, не мог найти в себе столько твердости, сколько находят в себе даже чисто политические деятели, если он из страха смерти перед своими учениками явно отрекается от той заповеди, в которой полагал всю сущность своего учения – чтобы не противиться злом против зла – если только случайное упоминание о ножах заставило его одуматься и искать подкрепление – то скажите, много ли нравственной силы может внушить нам пример такого человека? Вместо бодрости при испытаниях не заставит ли он думать так: если лучший из людей, Иисус, которого столько сот миллионов людей от начала века считают Сыном Божиим, если и Он-то совершенно потерял присутствие духа и отрекся было от первейшей заповеди Своего учения, то мне ли бороться с искушениями плоти, жертвовать ради пяти заповедей своею жизнью, своим покоем, своими наслаждениями? Видно, немного силы имеет учение нового евангелия, если лучший из людей не решался за него умереть, когда многие готовы умирать без страха даже за любые политические химеры, за безумные бредни фантазии. Если так мало могло воодушевить новое евангелие своего основателя, то даст ли воспоминание о нем бодрости для подвига? Дало ли оно ее кому-либо на самом деле? Нет, в новом евангелии, хотя Иисус и обещает ученикам Своим, что дух Его учения после Его смерти вселится в них, но оказалось, что они проповедовали не Его учение, а какое-то другое: учили о Его Божестве, о Его воскресении из мертвых, на чем основывали всю свою проповедь, учили о падении Адама, об искуплении всех страданиями Христовыми, учили о Церкви, о благодати и таинствах, об иерархии. Поэтому автор переделанного евангелия отвергает и Деяния, и Послания апостолов и представляет дело так, что учение Христово 18 веков оставалось совершенно искаженным и только теперь восстановляется в первоначальной чистоте.
Итак, если Иисус Христос и Сам не был достаточно сильно убежден в Своем учении, и апостолов не умел научить ему, то неужели Его личность может иметь вдохновляющее значение для теперешних людей, неужели можно назвать Его именем, именем христианства, исполнение заповедей нового евангелия?
Обратимся к рассмотрению того значения, которое имеет нравственный образ нашего Господа по православному учению. Предвечное слово Божие, единородный Сын Отца в предвечном совете, благоволил искупить от греха род человеческий; когда, действительно, люди отступили от Бога и, предаваясь неистовству страстей, истребляли друг друга, когда над целым миром тяготело зло и заблуждение, а все высшие стремления человеческие оказывались бессильными – еще тогда в избранном народе из поколения в поколение передавалось утешение о том, что придет Некто, Кто одолеет тяготеющий над миром грех и осмыслит Собою бессильную пока борьбу людей со злом. Это чаяние высшего Праведника давало твердость в скорбях патриархам и царям иудейским и исполняло их верой, что над всей этой мирской грязью, над постоянным видимым торжеством неправды и посмеяния добра возвышается некий высший смысл, управляющий событиями жизни человеческой, некая Божественная личная Премудрость благословляет угнетенного праведного страдальца и поддерживает ослабевающих. Эта совечная Отцу Небесному Премудрость придет некогда на землю и соберет воедино весь мир не мечом, но проповедью. Ее пришествие не будет мгновенным, чуждым всему доброму, что было раньше: нет, ни одно доброе дело на земле не обходилось без нее, но все ею соединялись воедино и соблюдаются ко дню воздаяния. Вот что говорится о ней в Ветхом Завете: Она же между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его неукоризненным пред Богом, и сохранила мужественным в жалости к сыну. Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, нисшедшего на пять городов… Праведного, бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, показала ему царство Божие и даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Когда из корыстолюбия обижали его, она предстала и обогатила его, сохранила его от врагов, и обезопасила от коварствовавших против него, и в крепкой борьбе доставила ему победу, дабы он знал, что благочестие всего сильнее. Она не оставила проданного праведника, но спасла его от греха: она нисходила с ним в ров и не оставляла его в узах, и потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его, показала лжецами обвинявших его и даровала ему вечную славу. Она освободила святой народ и непорочное семя от народа угнетавших его, вошла в душу служителя Господня и противостала страшным царям чудесами и знамениями. Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным; и днем была им покровом, а ночью – звездным светом. Она перевела их чрез Чермное море и провела их сквозь большую воду… (Прем. 10, 5-18). Итак, еще задолго до пришествия своего, по учению Православия, Господь проявлялся в добродетели человеческой, и вся она сводилась ко Христу, осмысливалась Им. Эта-то вера в торжество добра в лице праведника, в котором воплотилась руководящая миром Премудрость, это-то чаяние Христа, по апостолу, и укрепляло праведников Ветхого Завета. Все сии… издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества… они стремились к лучшему, то есть к небесному… Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища… И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду… другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11, 13–16, 24–26, 32–33, 36–38). Как начальник и совершитель их веры и является, по слову апостола, Иисус, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия (Евр. 12, 2). Если теперь апостол прибавляет: Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими (Евр. 12, 3), – то понятно, какое действенное значение может иметь это напоминание, когда подвиг Христов является не просто примером геройства после колебаний, не просто образцом известной добродетели, но действительным законом или идеалом всей истории человечества, когда он есть подвиг не сомнительного филантропа, но вечного личного Разума, Сына Божия, через Которого управлялась от века жизнь и сохранялось все доброе. В Его подвиге, таким образом, увенчиваются все праведные страдальцы, ибо тогда было показано, что эти-то страдания за правду, эта борьба не есть случайность на земле, но что в этом, в добродетели, заключается смысл всего мирового разума, что этот подвиг принимает на себя сам Бог, сходящий на землю. Нет места для колебаний в жизни, нет искушений сомневаться в законности и важности добродетели, когда ради нее приходится страдать; на то и Бог явился среди людей – не для того, чтобы захватывать могущество и власть, но чтобы бороться с искушениями диавола, чтобы страдать за добро, за истину!