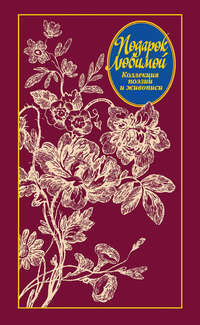Полная версия
Такая разная любовь. Любимые произведения русских классиков (сборник)
– Ах ты, утешеньишко мое милое, – сказала женщина, поглаживая кудри сына темной маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами:
– Хорош сынок? Глазки-то, а?
– Ты возьми один глаз, а ноги – отдай, – предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. – Какой… железный! Толстый. Мам, он – на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала, – помнишь?
– Ну как же!
И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:
– Это, видишь, ввалился однова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» – «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у его все брюхо веревкой нетолстой окручено, – длинная веревища да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?»
Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.
– Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это – через стену перелезать, у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет, – поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали…
– Уж ты у меня хохотать любишь, – сказал мальчик тоном старшего. – А вот самовар бы поставила…
– Так сахару же нету у нас.
– Купи поди…
– Да и денег нету.
– Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот…
Он обратился ко мне:
– У тебя есть деньги?
Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый и скрылась за дверью, напевая в нос.
– Мамка! – крикнул сын вслед ей. – Вымой окошко, ничего не видать мне! – Ловкая бабенка, я тебе скажу! – продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми, – полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. – Работница… как начнет паклю щипать, – хоть задохнись, такую пылищу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и все! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!
Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:
Вот Орина на перине лежит…Послушав немножко, я сказал:
– Очень похабная песня.
– Они все такие, – уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся. – Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня…
Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака, – Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.
Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла немытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.
Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:
– Р-рвань!
– Сними, – сказал Ленька, вздыхая, – прогнали… Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:
– Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай, – ты чертей видал?
– Нет.
– И я тоже. Я, ночью, все в подпечек гляжу – не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?
– А на что тебе их?
– Интересно. Вдруг один черт – добрый? Водовозова Катька видела чертика в погребе, – испугалась. А я страшного не боюсь.
Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:
– Я люблю даже – страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло, – листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то – мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то – дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновницына кошка бежит…
Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфекту, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.
– Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и все. А – слушай-ка: если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?
Было ясно, что он верит в это; я ответил:
– Если хорошо кормить – вырастет!
– Ну да! – радостно вскричал он. – А мамка, дурочка, смеется!
И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.
– Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади – верно?
– А что ж? Можно!
– Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!
Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.
– Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить, – если он – с лошадь, так он сильный! Верно?
– Только вот усы у них…
– Усы не помешают, они – как вожжи будут, усы! Или – паук ползет – агромадный, как – кто? Паук – не боле котенка, а то – страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?
– Бывал, как же!
– Расскажи, какое оно, а?
Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротишко открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи – бутылка водки.
– Вот она – я!
– Ло-овко, – вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. – Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то – издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! – обиженно и грустно закончил он.
Мать ласково посоветовала ему:
– А ты – не ругайся, не надо! Ты еще маленький…
– «Не ругайся»! Тебе – хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты – счастливая… Слушай-ка, – обратился он ко мне, – это Бог сделал поле?
– Наверное.
– А зачем?
– Чтобы гулять людям.
– Чистое поле! – сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая. – Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их, – гуляй, домашние! А – слушай-ка! – Бога делают где – в богадельне?
Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, – опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:
– О, – чтоб те… о господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, Бога-то – богомазы… ой, смехота моя, чудашка…
Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.
– Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.
И снова повторил ругательство.
– Пускай смеется, – сказал я, – это тебе не обидно!
– Нет, не обидно, – согласился Ленька. – Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Вымой же окошко, я света божьего не вижу», а она все забывает…
Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:
– Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он – утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы…
Она говорила это улыбаясь.
А Ленька вдруг спросил меня:
– Ты – дурак?
– Не знаю. А что?
– Мамка говорит – дурак!
– Так ведь я – почему? – воскликнула женщина, нимало не смущаясь. – Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а – сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у – какой…
Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые, – тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и – веселая насмешка.
– Ну, давайте чай пить, – предложила она торжественно.
Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром, – мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.
– Вырасту большой, – говорил он, – сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.
– Охо-хо, – вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась. – Раем видит поле-то, милый! А там – лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.
– Врешь, – остановил ее Ленька, нахмурясь. – Спроси-ка его, какое оно, он видел.
– А я – не видала?
– Пьяная-то!
Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.
Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:
– Наелся, напился, – даже спать захотелось, ей-богу…
– И усни, – посоветовала мать.
– А он – уйдет! Ты уйдешь?
– Не бойсь, я его не пущу, – сказала женщина, толкнув меня коленом.
– Не уходи, – попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери:
– Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы, – а то валандаешься зря со всяким… только бьют… А он – добрый…
– Спи, знай, – тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.
– Он – богатый…
С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:
– Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе – распутная! А – что ж? Мне стыдиться некого. К этому же – видите, как я снаружи испорчена? Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?
– Да. Очень!
– Не налюбуюсь. Умница ведь?
– Мудрец.
– То-то! Отец у него – барин был, старичок; этот – как их зовут? Конторы у них, – ах ты! Бумаги пишут?
– Нотариус?
– Вот, он самый! Милый был старичок… Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.
Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:
– Вдруг – помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол, – только и житья! Вы – квасом торгуете?
– Квасом.
– От себя?
– От хозяина.
Она подвинулась поближе ко мне, говоря:
– Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!
– Я не брезгую.
Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:
– Очень я благодарна вам за Леньку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы…
– Надобно мне идти, – сказал я.
– Куда? – удивленно спросила она.
– Дело есть.
– Останьтесь!
– Не могу…
Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:
– А то – останьтесь. Я рожу-то платком прикрою… Хочется мне за сына поблагодарить вас… Я – закроюсь, а?
Она говорила неотразимо по-человечьи, – так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее – детские глаза на безобразном лице – улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.
– Мамка, – вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись, – ползут! Мамка же… иди-и…
– Приснилось, – сказала мне она, наклонясь над сыном.
Я вышел на двор и в раздумье остановился, – из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:
Придут Страсти-Мордасти,Приведут с собой Напасти;Приведут они Напасти,Изорвут сердце на части!Ой беда, ой беда!Куда спрячемся, куда?Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.
Счастье

«…Однажды счастье было так близко ко мне, что я едва не попал в его мягкие лапы.
Это случилось на прогулке; большая компания молодежи собралась знойной летней ночью в лугах, за Волгой, у ловцов стерляди. Ели уху, приготовленную рыбаками, пили водку и пиво, сидя вокруг костра; спорили о том, как скорее и получше перестроить мир, потом, устав телесно и духовно, разбрелись по скошенному лугу, кто куда хотел.
Я отошел прочь от костра с девушкой, которая казалась мне умной и чуткой. У нее были хорошие, темные глаза, в ее речах всегда звучала простая, понятная правда. Эта девушка смотрела на всех людей ласково.
Мы шли тихонько, бок о бок; под ногами у нас скрипели, ломаясь, срезанные косою стебли травы, из хрустальной чаши неба, опрокинутой над землею, изливалась хмельная влага лунного света.
Глубоко вздыхая, девушка говорила:
– Как хорошо! Точно африканская пустыня, а стога – пирамиды. И жарко…
Потом она предложила сесть под стог сена, в круглую тень, густую, как днем. Звенели кузнечики, вдали кто-то заунывно спрашивал:
Эх, зачем ты изменила мне?Я стал горячо рассказывать девушке о жизни, знакомой мне, о том, чего я не понимал, но – вдруг она, тихонько вскрикнув, опрокинулась на спину.
Это был, кажется, первый обморок, который я видел, и на минуту я растерялся, хотел кричать, звать на помощь, но тотчас вспомнил, что делают в таких случаях благовоспитанные герои романов, знакомых мне, – разорвал пояс ее юбки, кофточку, тесемки лифа.
Когда я увидел груди ее, точно две маленькие чаши из серебра, полные сгущенного света луны и опрокинутые в сердце ее, – мне жадно, до огненного удара в голову, захотелось поцеловать ее. Но, сломив это желание, я стремглав бросился к реке за водою, ибо – по писанию – герои всегда, в подобных случаях, убегали за водой, если только на месте катастрофы не было ручья, заранее приготовленного догадливым автором романа.
А когда я вернулся, прыгая по лугу, точно бешеный конь, со шляпой, полной воды, – больная стояла прислонясь к стогу, в полном порядке, исправив все разрушения туалета, совершенные мною.
– Не надо, – сказала она утомленно и тихо, отводя рукою мокрую шляпу мою…
И пошла прочь от меня на огонь костра, где два студента и статистик завывали все ту же надоевшую песню:
Ах, зачем ты изменила мне?
– Я не сделал вам больно? – осведомился я, смущенный молчанием девушки.
Она кратко ответила:
– Нет. Вы – не очень ловкий. Все-таки я – разумеется – благодарю вас…
Мне показалось, что она не искренно благодарит.
Я не часто встречал ее, но, после этого случая, встречи наши стали еще реже, – вскоре она и совсем исчезла из города, и уже спустя года четыре я увидел ее на пароходе.
Она ехала из приволжской деревни, где жила на даче, в город к мужу, была беременна, хорошо и удобно одета, – на шее у нее длинная золотая цепь часов и большая брошь, точно орден. Она очень похорошела, пополнела и была похожа на бурдюк густого кавказского вина, которое веселые грузины продают на жарких площадях Тифлиса.
– Вот, – сказала она, когда мы дружески разговорились, вспоминая прошлое, – вот я и замужем, и все…
Был вечер, на реке блестело отражение зари; пенный след парохода уплывал в синюю даль севера широкой полосою красного кружева.
– У меня уже есть двое ребят, жду третьего, – говорила она гордым тоном мастера, который любит свое дело.
На коленях ее лежали апельсины в желтом бумажном мешке.
– А – сказать вам? – спросила она, ласково улыбаясь темными глазами. – Если б тогда, у стога, – помните, – вы были… смелее… ну – поцеловали бы меня… была бы я вашей женой… Ведь я – нравилась вам? Чудак, помчался за водой… Эх вы!
Я рассказал ей, что вел себя, как показано в книгах, и что – по писанию, священному для меня в ту пору, – нужно сначала угостить девицу в обмороке водою, а целовать ее можно только после того, когда она, открыв глаза, воскликнет:
– Ах, – где я?
Она немножко посмеялась, а потом задумчиво сказала:
– Вот в том-то и беда наша, что мы все хотим жить по писанию… Жизнь – шире, умнее книг, сударь мой… жизнь вовсе не похожа на книги… Да…
Достав из мешка оранжевый плод, она внимательно осмотрела его и сморщилась, говоря:
– Негодяй, подложил-таки гнилой…
Неумелым жестом она бросила апельсин за борт, – я видел, как он закружился, исчезая в красной пене.
– Ну, а теперь – как? Все еще живете по писанию, а?
Я промолчал, глядя на песок берега, окрашенный пламенем заката, и дальше – в пустоту рыжевато-золотых лугов.
Опрокинутые лодки валялись на песке, как большие мертвые рыбы. На золоте песка лежали тени печальных ветел. В дали лугов стоят холмами стога сена, и мне вспомнилось ее сравнение:
“Точно африканская пустыня, а стога – пирамиды…”
Очищая другой апельсин, женщина повторила тоном старшей и как бы наказывая меня:
– Да, была бы я вашей женой…
– Благодарю вас, – сказал я, – благодарю.
Я благодарил ее – искренно».
Александр Иванович Куприн
1870–1937
Леночка
Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на два дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые, любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну, – в свои сорок пять лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной. Но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собою сузился круг радостей и наслаждений, явились оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках, выветрилась бессознательная, бессловесная звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты, перестала волновать тревожным и острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное, – первый признак душевного увядания! – мысль о собственной смерти стала приходить не с той прежней беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде, – точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то другой, по фамилии Возницын, – а в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности, от которой на ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие, мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки, невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни.
Он так и сделал. Два дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с шести лет воспитывался под руководством классных дам по фребелевской системе. Там все было переделано и перестроено: отделения для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек по-прежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкафу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине, в одной домовой церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадило и выходя в стихаре со свечою к Евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал «теплоту» после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого дьякона, за что однажды и был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным, тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные и полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал – так все перестроилось и изменилось за целую четверть века. Но с удивлением и с горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнью, очерствелая душа оставалась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней, знакомой печали по прошедшему, такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали…
«Да, да, да, это старость, – повторял он про себя и грустно кивал головою. – Старость, старость, старость… Ничего не поделаешь…»
После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале страстной недели. Но на море разыгрался длительный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился садиться на пароход. Только к утру страстной субботы установилась ровная, безветренная погода.
В шесть часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола Практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания, когда бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бесцельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи и наконец-то вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать.
Пассажиров в этот день было очень мало, да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дама с дочерью. «И прекрасно», – подумал офицер с облегчением.
Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная – большая и светлая, с двумя диванами, стоявшими под прямым углом, и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо.
В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором, и так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх.
Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочно-розовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода. Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого баркаса, приставшего вплотную к «Алексею», перегружали какие-то тюки и бочки. «Майна, вира, вира помалу, стоп!» – звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова.
Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставленные вдоль стен большим покоем, были весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные целиком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие, загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода, и казалось, что какие-то странные, невиданные допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, как их рисуют на картинах, лежат на больших блюдах, подогнув под себя ноги, и с суетливой и комической осторожностью оглядываются вокруг, пригибая головы книзу. А солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиоли, тюльпаны и анютины глазки.
К чаю вышла в салон и единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетой в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий синий, почти прозрачный, газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности, небольшому размеру, формату и переплету канареечного цвета.
Что-то страшно знакомое, очень давнишнее мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось.
Скоро стало жарко, и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье, с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый, слоистый и обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью.
Возницын ходил по палубе, вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него, посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством, и опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главное – офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее ни напрягал.