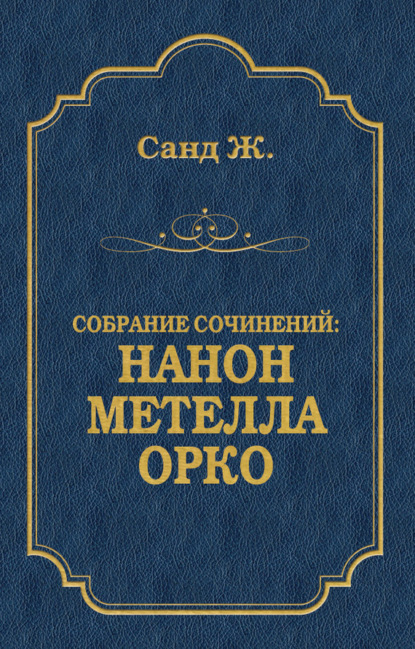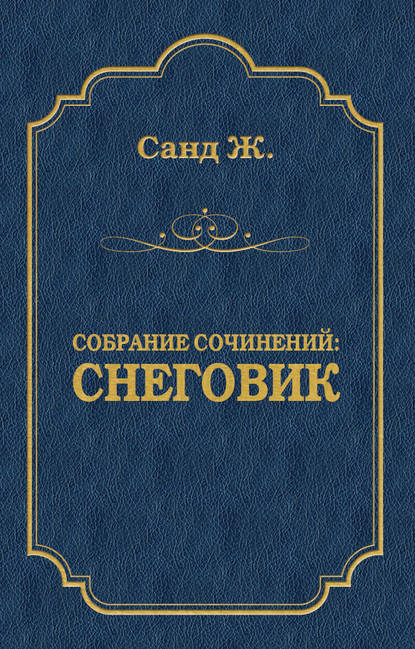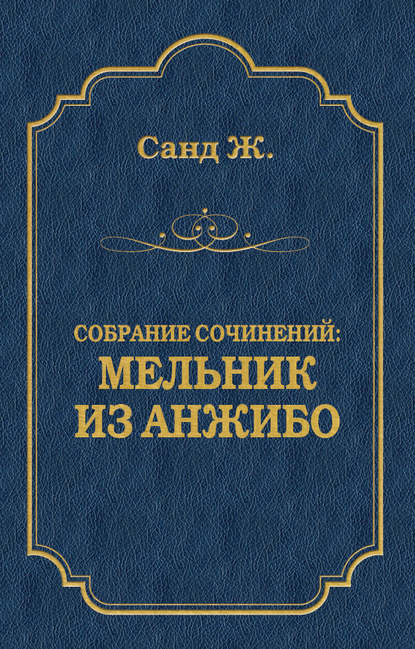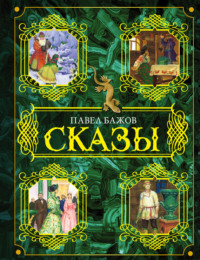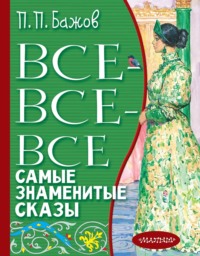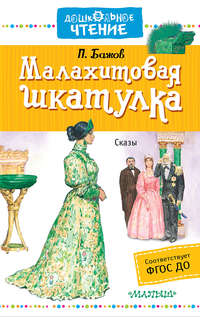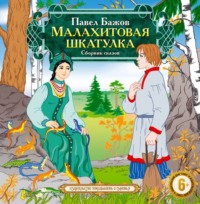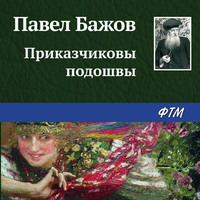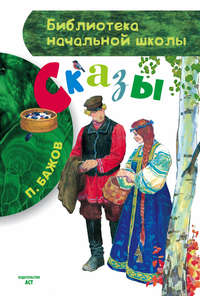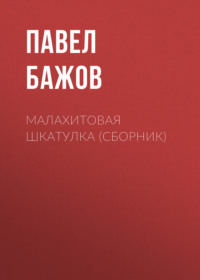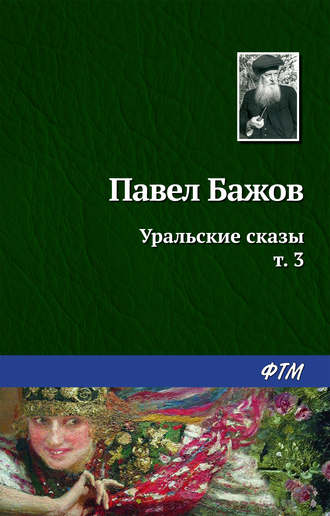
Полная версия
Уральские сказы – III
– Вы что? Политика али что? Научились, главное дело, в чужом кармане считать! Покажу вот дорожку! Покажу! Становому сказать – живо отправит. Сибирь-то, она, брат… На всех, главное дело, хватит!
Опять послышались выстрелы. Редкие, гулкие, но тех, коротких и быстрых, на этот раз не было. Стражник на гнедом коне поскакал во весь опор к перевозу.
– Углядел что-то коршун! – промолвил мужик в розовой рубахе.
Выстрелы стали чаще, но все такие же гулкие.
– Нашли дурака! Так он вам и покажет, где сидит!
– Он где?
– Кто знает, может – в этом лесу, может – давно через тракт перебежал. Ищи тогда! Простоим ночь у пустого места.
– Ты караулишь?
– Поставили, вот и стою. Что станешь делать! А вы лесом-то не ходите, прямо на огороды правьтесь. Перелезете где-нибудь да по тракту и ступайте, а то еще под нечаянную пулю попадете.
Мы послушались совета. Пошли прямо на огороды, перелезли через прясло, прошли лесной участок и вышли на разделанное под огород место. Огород упирался в глухую стену надворных построек, проездные ворота были заперты. Постройки были хорошие, под железными крышами. Видно, это был дом какого-нибудь заводского начальства.
Перешли еще два-три огорода, а все то же: глухая стена построек и запертые ворота. Наконец попался нам «голый дом», у которого стояла одна покосившаяся конюшенка без крыши. Через наружное прясло виден был тракт. Это как раз нам и надо было. И гряды здесь шли вдоль – удобно для выхода.
– Ну-к что, пошли ребята! – И Кольша, помахивая ведерком и обломком удилища, пошел по борозде между картофельными грядами, мы – за ним.
В это время яростно залаяла собачонка, выбежавшая из-за конюшенки. За собачонкой вылетела женщина в синем платке, с какой-то узенькой крашеной дощечкой, должно быть от кросен.
Женщина угрожающе взмахивала дощечкой и кричала:
– Я вас, негодников! Нарву вот крапивы… Кольша, однако, спокойно шел прямо на женщину. Он у нас всегда такой! Без сноровки и в драку ходил. Мы, конечно, поторопились поддержать товарища:
– Мы, тетенька, не воровать…
– Нам только на улицу перелезть.
– Что вам тут за дорога? – спросила женщина помягче.
– Не пускают зимником-то, велят по тракту. Мы и пошли огородом. Ничего не рвали, хоть обыщи!
Женщина цыкнула на собачонку и совсем спокойно стала спрашивать, чьи мы, как сюда попали и что видели на зимнике.
Когда мы рассказали, женщина раздумчиво проговорила:
– И здесь, поди, вас не пропустят. Возчиков вон всех заворотили. До Речек, слышно, облаву протянули. Недавно ваш горянский на паре лошадей шестерых стражников привез. Как быть-то? Ночевать, видно, вам у меня. А дома-то, поди, ждать будут. Спрашивались хоть у матерей-то?
– Нет, тетенька. Не спрашивались.
– Ох, ребята, горе с вами! На-ко, куда не спросясь убежали! Как теперь, а?.. Темно ведь скоро будет, а то бы по Коровьему прошли, а там берегом. Забоитесь по потемкам-то?
– Не забоимся, тетенька! Не маленькие, поди.
– Видать! Так вы, нето, по заогородам ступайте. Тут их всего восемь осталось. У последнего-то огорода, от крайнего столба, прямехонько идти. Тропки там пойдут к болоту – оно ныне сухое. Ишь, в огороде-то все сгорело. Вдоль того болотца и ступайте. Оно вас к пруду выведет. Там мысок есть. На этой стороне мысок и на той мысок. Это и будет Коровье. Тут хоть широконько, а мелко: коровам по брюхо. Мы тут когда бегаем… в обход мостиков. Много короче выходит. А дальше – тропка, прямехонько к Перевозной горе. Знаете, поди, те места?
На плотине пробило девять. Колюшка не поверил:
– Просчитался дедко. Девять отбил!
– Девять и есть, – подтвердила женщина.
Когда мы пошли обратно к пряслу, она остановила нас:
– Постой-ко, ребята, я вам хоть по кусочку дам. Есть захотели, поди, рыболовы?
Отказываться мы, конечно, не стали, и женщина вынесла нам три ломтика круто посоленного ржаного хлеба.
– Передайте матерям-то поклончик от Настасьи Огибениной. Пущай хорошенько вас надерут! – И сейчас же предупредила: – Вы, ребята, через прясла-то не ползайте. Тут через два огорода такие кикиморы живут. Придумали цепную собаку в огород спускать. Оборвет пятки-то. По за-огородам идите! Да не забывайте – от последнего столба прямо. А как переходить станете, на мысок правьтесь. Направо-то глубоко. Не утоните хоть!
– Мы, тетенька, плавать умеем.
– Саженками, по-собачьи, по-лягушачьи. Это уж так точно.
– Вижу, что мастера. По три раза на день таких драть, и то, поди, мало. Ох, ребята, ребята!..
И вот мы опять в лесу, за огородами. Хлеб тетушки Настасьи оказался летучим – в минуту ни у кого не оказалось.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Уральские были (Из недавнего быта Сысертских заводов – Очерки)».
Написаны в 1923–1924 годах, в период работы П. Бажова в областной «Крестьянской газете». Опубликованы свердловским издательством «Уралкнига» в 1924 году. П. Бажов рассказывал: «Общество «Уралкнига» возомнило себя не хуже столичного. «Джунгли» Киплинга решило издавать и другие подобные же произведения. Возникла известная неловкость. А Урал где же? Я сидел в это время в «Крестьянской газете», в отделе писем. Пришли ко мне: «Ты напиши что-нибудь об Урале». – «Не шуточно дело». – «Да что-нибудь». – «О сысертских заводах могу». Согрешил книгой, впервые со мной случилось.
Показалось удивительно легко. Над словом не думал. Запас был. Писал так, как у нас говорят. Когда пишешь на материнском и отцовском языке, да о том, что сам видел – легко. Встает картина. Календарных дат не надо. Сблизить понятия, сопоставить. Книга эта меня и погубила. Отсюда все и пошло». «Уральские были» выходили впервые подвалами в журнале «Товарищ Терентий».
(Из архива писателя.)
Место действия очерков – сысертский горный округ в последнее десятилетие девятнадцатого века. В производственных и бытовых взаимоотношениях героев автором раскрываются типические общественные связи эпохи.
Книга «Уральские были» вызвала положительные отклики в местной и центральной прессе.
2
Железоделательные заводы в Минусинском округе, бывшие Кольчугинские. (Прим. автора.)
3
Так безыменно звался Екатеринбург.
4
Уличное прозвание отца – Сверло. Прим. автора.
5
Рабочие заводов сами поголовно значились крестьянами Сысертской, Полевской и Северской волостей, но называли себя «заводскими», а «крестьянами» звали жителей сел и деревень, где занимались хлебопашеством. (Прим. автора.)
6
Улица притонов в Екатеринбурге в: дореволюционное время. (Прим. автора.)
7
Так назывался букет похабнейших ругательств.
8
«Вес» – около сорока пудов.
9
Прозвище жителей Полевского завода.
10
Был такой жуликоватый барон – Бреверн, ухитрившийся заложить и продать свои прииски вблизи деревни Косой Брод чуть не в десять рук сразу. Землю между тем кособродчане считали своей и вели судебное дело с этим титулованным мошенником. (Прим. автора.)
11
Лося.
12
На рудниках.
13
Сын.
14
Сторожа по охране от лесных пожаров в летнее время. (Прим. автора.)
15
Бельевая корзина из березовой стружки, починкой отопков – изношенная рабочая обувь. (Прим. автора.)
16
Полуштофа по старой мере.
17
Громов.
18
Медведев Николай Николаевич, человек уже пожилой.
19
Фамилии его не помню.
20
Сто – сто пятьдесят пудов.
21
Подрубались со всех сторон.
22
Позем, поземина – вяленая пластинами (без костей) рыба; вяленуха – вяленое мясо. (Прим. автора.)
23
Песок применялся вместо промокашки. Промокашка – неклеенная (пористая)бумага для удаления остатков чернил с документа, чтобы они не размазались. Чернила были только жидкими. – прим. скан.
24
Автобиографическая повесть, рисующая детские годы писателя. Опубликована впервые под псевдонимом Е. Колдунков в детском альманахе «Золотые зерна», Свердловское областное издательство, 1939, а затем отдельным изданием, Свердлгиз, 1940. Позднее переиздавалась уже под фамилией автора в Детгизе, в 1945 и 1951 годах, серия «Книга за книгой». Вышла и в Латгосиздате, Рига, в серии «Библиотека школьника», 1949.
По свидетельству самого П. Бажова, он часто прибегал к псевдонимам: «Помню – Егорша Колдунков для повести; Чипонев (читатель по неволе) – для библиографических заметок, которые печатал в журналах «Штурм» и «Товарищ Терентий»; П. Осинцев (по девичьей фамилии матери) – для очерков из быта новостроек; П. Деревенский – подписывая очерки из быта колхозной деревни».
(Из архива писателя.)
В воспоминаниях К. Боголюбова говорится: «Некоторые свой вещи в этот период (1936) Павел Петрович подписывал псевдонимом Колдунков. Я удивлялся, почему он избрал такой псевдоним. Узнал я об этом значительно позже, когда однажды зашла у нас речь о значении различных фамилий.
– Есть у нас в Сысерти Чепуштановы, их еше называют «береговики». Почему так? Оказывается у Даля чепуштан – это береговой лес для сплава. А то есть еще Темировы. Эта фамилия татарского происхождения. По-татарски, темир – железо. Жил, наверное, на заводе татарин, какой-нибудь Темирко. Вот от него и пошли Темировы. Да взять хотя бы мою фамилию – Бажов. Ведь она от слова «бажить», что значит колдовать. Отсюда слово «набажил» – наговорил, напророчил то есть». (Альманах «Южный Урал», № 5, 1951, стр. 55.)
В журналах «Товарищ Терентий» и «Уральская новь» в 1921–1925 годах П. Бажов, под псевдонимом «Старозаводский», печатал путевые заметки, записи из блокнота, рассказывал о новой жизни, труде и быте уральских заводов.