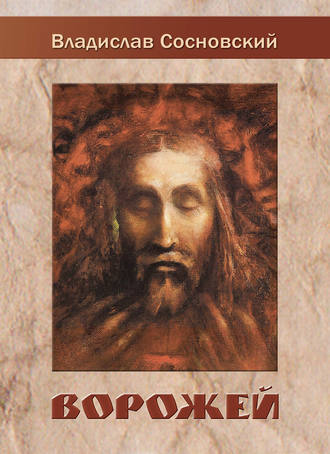
Полная версия
Ворожей (сборник)
В это время толпы грязных, оборванных людей двигались колоннами к дверям разных контор и Управлений. Им не доставало только знамен.
Хирург предпочитал сенокос. Он как-то приспособился хватать своими культяпками косу и орудовал ею не хуже, а то и лучше других. Так он трудился уже несколько лет, и даже вертолетчики, пролетая над таежными участками покосов, привычно говорили: «Подходим к Хирургу».
Сам же Хирург с нетерпением ждал этого времени и все чаще уходил к морю – посмотреть на Восток, скоро ли оно явится оттуда, время сезонного труда. Берег, как правило, был пустынным, лишь рыбаки, похожие издали на муравьев, носились ватагами по льду за косяками наваги и корюшки от лунки к лунке, наматывая с ладони на локоть длинные лески.
И вдруг – фигура на прибрежном валуне, командующая неизвестно чем.
– Аврал! На камбузе пожар! Все наверх, мать вашу! – извергал Боцман не своим голосом, воображая, видимо, какую-то роковую ситуацию.
Хирург присел позади корабела, восхищенный поэзией морской работы. Но «пожар» под напором смотрителя моря был погашен, и командующий далеким матросами, утерев со лба пот рукавом бушлата, сполз с капитанского мостика. Обнаружив неожиданного человека в морской шинели, Боцман облизал пересохшие губы, поскольку уже вдоволь наорался после того, как спустил в трюм своего организма полкило водки, сплюнул от остолбенения и, наконец, пришел в себя.
– Братишка! – заревел он с новой силой, схватил Хирурга что куклу и стал, дыша спиртом, целовать прямо в губы.
Ноги у Хирурга висели над землей, а Боцман прижал неведомого человека к себе и все целовал, целовал его, как родного сына, исключительно, конечно, из-за морской шинели. Наконец, он поставил Хирурга на каменистую почву и, улыбаясь во все свое бородатое лицо, прослезился.
– А ведь я тебя помню, – все больше любил Хирурга Боцман. – Мы с тобой на «Быстром» ходили. Капитан у нас еще Семенов был.
– Это я тебя помню, – вздохнул Хирург. – Мы с тобой под Сусуманом в одной зоне страдали. Правда, я уже досиживал, а тебя только приодели в казенку. Корпус у тебя заметный, вот ты на память и лег. Сейчас узнал. Тебя, кажется, Боцманом, что ли, звали.
– Точно, – помрачнел моряк. – Одно название осталось. А тебя-то как? Чегой-то не узнаю, прости. Дым в голове.
– Меня-то?.. – Хирург помолчал, подумав, кто он действительно такой есть на белом свете. – Меня Хирургом кликали. Тоже одно название, прости, Господи.
– Да, да, да, – просветлел памятью Боцман. – Обличье твое, видишь, истерлось, а может, и не видел я тебя никогда. Я там первое время вообще никого не видел. Сам знаешь… А вот рассказов о тебе слышал много. Как ты переломанными клешнями зеков спасал. Покажи клешни-то.
– Что я тебе, экспонат? – обиделся Хирург.
– Ладно, не серчай, – повинился Боцман. – Стакан держать можешь? У меня еще пузырь есть.
– А у меня килька в томате, – сорганизовался Хирург. – И хлеба ломоть.
– Ну вот, – обрадовался Боцман. – Видишь, брат, мне тебя сам Бог послал. А то я одним сырым ветром закусываю. Да вот луковица была.
Боцман в два приема расковырял банку каким-то заточенным для вскрытия спиртного гвоздем, откупорил бутылку и протянул Хирургу стакан и, когда тот взял его, Боцман содрогнулся – кисть была расплющена, пальцы вывернуты, и непонятно – как, за счет чего они действовали. Боцман заскрипел зубами и налил Хирургу полный до края.
– Твари, – сказал он неизвестным палачам. – Разве можно так уродовать человека? За что?
Хирург, поевший пищи за неделю один раз, прожевал после водки пару килек, покачался немного, глядя, как начинают летать сопки, и лишь успел подумать, что, может быть, это весна поплыла с Востока, прекрасная, нежная весна.
Боцман поднял его, павшего на песок, усадил к себе на колени как дитя малое, отряхнул шинель и от бесконечного горя жизни бесслезно зарыдал одним горлом, глядя в застывшую, глубокую синь бухты.
В тот вечер, когда Хирург ушел от жизни в тихое беспамятство, Боцман малость покачал его на коленях для собственного успокоения, потом взвалил тюремного лекаря во всей его морской форме к себе на плечи – Хирург был вдвое легче портовых мешков – и не спеша двинулся домой.
Конечно, в таком навьюченном состоянии по городу Боцман пробраться не смог бы. Поэтому, дойдя до порта, он остановил пограничную машину и, указав на Хирургову шинель, объяснил, что сей морской пограничник по причине усталости от службы нуждается в немедленной доставке к месту проживания. Лейтенант, сидевший рядом с молоденьким водителем, почуял от Боцмана нетрезвый ветер и посочувствовал морскому охраннику границ, сказав: «Давай, кидай его взад, на корму».
Хирург очнулся в тихой незнакомой комнате на приличной кровати среди, как ему показалось, очень хорошей и даже пугающей обстановки. Здесь была та самая кровать, на которой царственно, под настоящим ватным одеялом возлежал Хирург, две табуретки, тумбочка, являвшаяся одновременно и столом, и газовая печка. То есть комфорт полный. Кроме того, на стене висела шикарная афиша, прочно прибитая ржавыми гвоздями. Афиша изображала каких-то грузин с гитарами. В углу на стуле со спинкой стоял огромный, как собачья будка, старый телевизор с бархатным слоем пыли на экране. Все это было для Хирурга чем-то вроде московского «Метрополя».
У него нехорошо заныло под ложечкой: куда это занесла нелегкая?
И вдруг страшный ужас пронзил лекаря. Он понял, что на нем нет шинели. Хирург вскочил, как от разрыва бомбы, но обнаружилось: шинель аккуратно висит позади кровати на качественном, прочном гвозде. От мгновенной усталости духа Хирург снова упал на постель, чтобы сердце вышло на ровный ход.
Было тихо, только со двора все время раздавались какие-то чавкающие звуки. Хирург встал и осторожно подкрался к окну. По истоптанной грязи подворья ходила и паслась какой-то дрянью из нескольких, выставленных в ряд корыт, толпа жирных, неторопливых свиней. Среди них возилась с ведром здоровенная, сама похожая на одну из чушек, тетка лет семнадцати.
Хирург вообще перестал что-либо понимать. Он трудно вспомнил, что встретил Боцмана, что они выпили на берегу, что он, Хирург, съел две кильки, что был синий вечер с далекими огнями кораблей. Но откуда взялась свинарня? Этого он понять не мог.
Слава богу, на тумбочке обнаружилась записка. «Пошел на работу Буду поже. Никуда не совайся. Харч промеж окон. Боцман. Смотри, не вылазь».
Хирург стал думать, успокаиваясь: до вечера далеко. Что бы ему такое сделать? Чем бы стратегически полезным заняться? Но ничего не придумал. Из «харча» имелся кусок сала, видно, соседского, и соленый огурец, так что готовить было нечего. Выходить из дома Хирург не помышлял, раз хорошим человеком никуда не велено «соваться». Тогда он лег на кровать и уснул до вечера, потому что не помнил, сколько лет назад нормально, по-человечески ночевал.
Вечером пришел с трудовой вахты Боцман.
– Ты тут, – обрадовался. – А я целый день боялся: не дай бог утечешь.
– Зачем? – сказал Хирург. – Записка ясная. Что ж я тебя подводить буду.
– Правильно, – сразу успокоился Боцман и кинул по привычке забрызганный рыбьей чешуей бушлат на газовую печку. Затем он смыл хозяйственным мылом с рук полведра мазута с сажей, умыл бороду и вытерся внутренней частью своего универсального бушлата. И расцвел.
– Порядок, – удовлетворился Боцман общим положением. – Давай будем рубать.
Из той же внутренности бушлата он извлек бумажный сверток, в котором оказалось килограмма два селедки.
– В порту сегодня был, – объяснил селедку Боцман. – Ребята дали. Говорят – бери ведро. Жалко, ведра нету. А то бы засолили.
Вдвоем они кое-как пожарили рыбу на сале и сели за тумбочку. Тут, во время ужина, Боцман и учинил Хирургу строжайший допрос, из которого выяснил его канализационное местожительство и кое-что в общих чертах из прошлой жизни. Хирург же в свою очередь тоже проведал о следователе кое-что в общих чертах, поскольку в здешней местности не принято было говорить о себе больше нужного, как бы ты человека ни возлюбил. Тут действовал закон особой мужской скромности.
– Так, – вынес приговор Боцман. – Будешь жить у меня. Мол, брат из Находки. Своим свинарям-соседям скажу, чтоб не цеплялись. И баста. Понял? А дальше видно будет. Может, я тебя официально пропишу, как какую-нибудь родственную личность.
До самой поры сезонных работ так и жили они по приказу Боцмана вместе.
Хирург похорошел, приосанился, даже между кожей и костью у него образовалась от постоянного питания легкая жировая прокладка. Весь этот период он тоже без дела не сидел.
Однажды Боцман привел с собой портового грузчика, здоровенного, краснолицего дядю, который внутри был калека. Много лет его жгла, точила и не давала житья язва желудка, и потому, хоть он и имел красивое мясистое лицо, но лик его был таким кислым, словно он навсегда объелся клюквой. Хирург усадил грузчика на собственную кровать и мягким, задушевным голосом родного брата попросил поведать ему, какое жизненное неустройство испытывает пострадавший. Грузчик сгреб с головы шапку и открылся Хирургу, будто на исповеди.
– Тогда будешь делать все как, я скажу, – постановил Хирург. – Иначе катись к чертовой матери.
Грузчик недоуменно посмотрел на Боцмана, мол, не Христос ли это, но согласился.
– Ладно, – сказал Хирург. – Тащи свой матрац – станешь жить при мне три недели, чтоб я тебя видел глазами. Короче, я тебя тут госпитализирую. На работе бери отпуск или как ты там сможешь – твое дело.
Через три недели бывший калека, веселый и отощавший, так как Хирург не давал ему ничего есть и только поил медвяной водой да палил язву через культяпки силой своего сердца, вышел на улицу и вдруг радостно подпрыгнул, напугав проходившую мимо старушку.
На следующий день грузчик отправился в поликлинику, где его давно знали как хронического больного. Врач посмотрела нутро пациента специальной японской камерой и удивленно спросила: «Вы чем лечились? Поразительно. Даже прежних рубцов нет». – «Ничем не лечился», – ехидно ответил здоровый грузчик, взял шапку и, выходя, хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка.
Вечером он принес Хирургу коньяку и денег. И немало денег, поскольку много лет доверялся врачам, а все, оказалось, без толку.
От такой материальной благодарности Хирург наотрез отказался, покрылся волнением и нечаянно взмахнул рукой, отчего вдруг ветхая его рубаха взяла и разошлась на спине от шеи до самого низа.
«Хорошо», – согласился грузчик, отметив неопровержимый факт негодности Хирурговой одежды. Забрал деньги, а коньяк оставил, сказав: «Хотите – пейте, хотите – бейте». И ушел.
На другой же день этот неугомонный грузчик принес Хирургу полное обмундирование, начиная от унтов и кончая лисьей шапкой, опять сказав: «Хочешь – выбрось, но это я тебе дарую от чистого сердца». И исчез теперь уже окончательно.
Делать нечего – пришлось Хирургу принять.
Дареную синтетическую шубу Хирург носить не стал, не изменив своей драгоценной шинели. В унтах, морском пальто с медными пуговицами и огромной огненно-рыжей лисьей шапке он сделался похожим на золотопромышленника-декадента. Некоторый народ оборачивался, чтобы запечатлеть необычное одеяние отставного, по всей видимости, моряка, а иная зоркая молодежь понимала Хирурга как новую моду. Милиция теперь подходить к нему опасалась. Хирург это сразу почувствовал и разгуливал по городу бесстрашным шагом.
Вслед за грузчиком явился согбенный рыбак, в обличье которого было полное нежелание жизни. Он принес Хирургу свой давний радикулит. Рыбака Хирург в стационар не положил, а велел являться на амбулаторное лечение. В первый же день Хирург раздел рыбака догола, вывел на мороз и окатил из ведра ледяной водой. Затем крепко растер его нутряным свиным жиром, который Боцман по приказу целителя попросил у соседей как лекарство. Потом Хирург положил рыбака на тощий матрац, расстеленный для жесткости прямо на полу, накрыл одеялом, оставив пустой лишь одну поясницу и начал ходить по ней босыми ногами, а после – толочь ее культяпками.
Больной выл так, что во дворе пугались свиньи и прятались от рыбака в свинарник. Зато после жестоких экзекуций Хирург чуть отдалялся от страждущего, садился на колени и начинал колдовать руками над недужим местом, как бы давя на него через расплющенные, вывернутые пальцы неведомой силой. Тут измученный рыбак сразу засыпал, посапывая, будто ребенок.
Через десять дней повеселевший, полностью разогнутый работник моря, зная, что Хирург денег не берет, выволок из такси бочонок красной икры, заявив на яростные возражения лекаря: «Не ори. Видишь, сам нес через весь двор, целых тридцать метров. Значит, ты меня качественно починил. А назад я бочонок не попру. Хоть стреляй». Сел в машину и укатил.
Затем с визитом была полная дама лет тридцати. Может, сорока. У дамы где-то что-то «свербело», а где – она и сама не знала.
Хирург сразу поинтересовался ее личной жизнью, замужем ли она и как часто испытывает женские радости наедине с мужчиной.
Выяснилось: дама не замужем, но у нее есть жених, трудящийся на флоте, и потому, конечно, женские радости ей приходится испытывать нечасто. Тут посетительница уже прониклась к Хирургу доверием и созналась, что такое положение ее, откровенно говоря, не устраивает, и она беспокоится – не станет ли изменять будущему супругу вследствие сложившейся ненормальной ситуации, в то время как женские радости ей требуются чуть ли не каждый день.
Хирург задумался. Ему не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Где у дамы свербит, было понятно, но как ей помочь – он затруднялся. Однако недужная пациентка в порыве откровения донесла целителю, будто жених плюс ко всему не всегда ее удовлетворяет, и это обстоятельство неожиданно облегчило задачу.
Хирург тут же полюбопытствовал, в каком положении фигур строятся любовные отношения. Дама несколько смутилась, покраснела, высморкалась в надушенный платочек и, наконец, созналась, что ее суженный, хоть и моряк, но фантазией ума не отличается и норовит по праву мужчины расположиться всегда сверху, не понимая, что эту позицию, равно как и прочие, иногда не вредно уступить и женщине. Дама же – существо слабое и противиться не может, так как она приличного воспитания. Не дай бог работник моря что-нибудь заподозрит: все-таки, ей уже не двадцать.
Хирург сказал: «М-да-а…» и посоветовал даме отбросить всякий стыд как предрассудок, предаться с женихом самому вольному воображению и привлечь к этому плаванию любви непосредственно моряка, сделав его капитаном дальнего странствия. К сему Хирург добавил некоторое практическое руководство на случай обвальных штормов, грозных ливней или, напротив, полнейших, томительных штилей. Ну а в случае чего, Хирург посоветовал сослаться на рекомендации врача.
Дама удалилась со счастьем тайной надежды в глазах, не предложив ничего, кроме «мерси» и позволения снова явиться через некоторое время. Для консультации.
Хирург был доволен: хоть что-то сделал бескорыстно, однако, ложась спать, обнаружил под подушкой деньги. И немало денег.
– Ты бы мог миллионером стать не хуже моих свинарей, – невпопад высказался Боцман.
Хирург помолчал и горестно вздохнул.
– Эх, Петя. Хороший ты человек, а тоже во тьме. Дурак, прости, Господи. Я вот и за тебя скоро возьмусь. Ты разве не видишь глазами: эти миллионеры… – Тут Хирург захлебывался от избытка ярости. – Это же все рабочие дьявола! Им нужно больше, больше, еще больше. Есть у них честь, совесть, человечность? Они бегут по головам и трупам, слепые и безмозглые. Бегут до первого поворота, за которым и встречная машина, и пуля в груди, и просто рак мозга или печени. Или смерть ребенка. За все придется отвечать, Петя. А ты говоришь – миллионером… Их только пожалеть можно. Да и то – нельзя, потому что в жалости есть осуждение. А кто мы такие – судить? Сатана берет их и машет зеленой бумажкой перед носом, и они цепляются, забывая, что Иисус говорил: «Если потеряешь себя, то достигнешь. Если будешь цепляться за себя, то потеряешь…»
– Ты это наблюдаешь? – показывал Хирург расплющенные руки. – Твои свинари животных на деньги переводят. А те… – Он заскрипел зубами и посмотрел в черное окно. – Те – людей… За власть. Вся Колыма костями, как горохом, засеяна.
– Это – правда, – согласился Боцман и тут же политически засомневался: – Но тогда получается, я плюралист, а ты нет.
– Шел бы ты к такой-то матери, – злился Хирург. – Где ты слово это дурацкое отковырял?
– В газете. Где же еще, – сознался Боцман. – На обеде сижу, газету читаю, а тут начальник смены, Степан Семенович, сильно культурный человек: всегда «Огонек» под мышкой носит. Я его в лоб и спросил, мол, что за слово. Он мне сразу и растолковал. Это, говорит, когда и нашим, и вашим. Вот и выходит: значит, я – сука, а ты – прямой человек.
– Молодец, хоть тут разобрался, – одобрил Хирург.
Так и прожили они в дружбе и общем согласии до теплых дней, до времени явления бичей из-под земли, как грибов. Настала пора сезонки, и Боцман сказал:
– Вообще-то я думал к рыбарям податься, но раз с твоими граблями сети не потаскаешь – пошли косить сено. Это тоже работа знакомая.
– Сволочь ты, – растрогался Хирург и обнял Боцмана. – А я все думаю, боюсь спросить, вдруг ты чего затеял со своим морем. Мне тут, сам видишь, опасно. Народ пошел валом. Отказать я не могу. А участковый узнает – крышка. Пойдет Хирург опять зэков лечить. Только я уж оттуда не выберусь. Властям разве чего докажешь? Не имеешь право на частную практику – и все тут. Опять же, прописки нет, да еще в погранзоне. Нужно мотать отсюда, куда глаза глядят. Хоть к тебе в Калугу, хоть ко мне в Питер. Сейчас перестройка. Такое время – везде всех за людей признают. Везде, только не тут.
При этих словах друга Боцман помрачнел.
– Нет, Дима, – признался он. – Я от моря не отвернусь. Весь я здесь. Оно во мне, море. Понимаешь? Проводить – провожу. Тебе, понятно, лететь нужно. А сам я… Ты уж прости.
– Ладно, – пресек Хирург душевную боль. – Заработаем денег, дальше видно будет.
Боцман посмотрел на Хирурга каким-то внимательно ласковым взглядом и вдруг спросил совершенно неожиданно:
– Слушай, Дима, тебе сколько лет?
Последовала немая пауза, в течение которой Боцман взирал на Хирурга как на некое нежное и в то же время туманное явление.
– Я, откровенно говоря, хотел поинтересоваться, – продолжил моряк, – да все неловко было. Иногда гляжу – тебе восемьдесят, не меньше. А иной раз, извини, конечно, ты – салага салагой. Ну, пятьдесят. Самое большое. Это как?
Хирург вздохнул. Он давно уже перестал обращать внимание на плывущие в бесконечность собственные годы. Большая их часть прокатилась как товарняк, оставляющий в душе лишь полынный осадок и тоскливую сумятицу истрепанных чувств.
– Шестьдесят с хвостиком, Петя, – задумчиво сообщил Хирург, уставившись в одну точку – Порой кажется, что мне двести, триста, а то и все пятьсот. Что я старый, как остров Спафарьева. Но, видно, было и есть много такого времени, которое я, в силу своей судьбы, еще не прожил. Вот почему подчас меня как бы снова перебрасывает в молодость. На такой волне и живу, – грустно улыбнулся Хирург.
– Про что и разговор! – обрадовался Боцман. – Разве кто против? Живи, пожалуйста, – разрешил он.
…Автобус круто повернул, и пассажиров кинуло вбок, аж кувырнулся и загремел позади какой-то ящик с железом.
– Эй ты, косорукий! Ты что, дрова везешь? – взорвался еще один собригадник Хирурга – Борис. Он вообще имел свойство моментально воспламеняться. При этом вспыхивало все: глаза, щеки и даже губы, обрамленные легким, темным пушком. Восточное лицо его было красиво гордой, упрямой, но какой-то злой красотой. Он был четвертым в их бригаде. Хирург вдруг ясно вспомнил день их знакомства.
…У дверей Стройуправления, набиравшего, в основном, бродяжий народ на сенокос, стояли трое: Хирург, Боцман и странствующий Василий, который для дальнейших продвижений в пространстве Земли тоже нуждался в средствах, и он решил на время приостановить свое шествие по планете, прикрепясь для денег к какой-нибудь сенокосной бригаде.
Был май, но океан еще дышал холодом. Солнце ныряло из тучи в тучу, и налетавший порывами ветер развевал пепельно-рыжее пламя бороды Боцмана.
Подходили к Хирургу и тот, и этот, но ни тот, ни этот не производили на бригадира впечатления людей, способных справиться со всем объемом тяжелых летних работ. И тут появился Борис. Он подошел самоуверенной, неспешной походкой человека, знающего себе цену. Модный черный плащ, белый шарф, аккуратная стрижка, твердый взгляд, крепкие плечи, на вид – лет двадцать пять.
– Мне сказали, ты бригадир, – обратился он к Хирургу – Я тот, кто тебе нужен. Вырос в деревне. Могу косить, таскать, стожить, баню поставлю. Избу, если надо, срублю, словом…
Хирург его взял. Сомнение мелькнуло лишь в том, что Борис был не из бичей, но анкета не требовалась, и потому взял. Бичи шли на сезонку от нужды и во спасение. А этот? Что-то тут было не то. Однако дело сделано.
…Океан исчез за поворотом, и Боцман задремал. Дремал так же путник Василий, склонив от усталости существования набок голову, самолично тронутую тупыми ножницами, отчего волосы его наталкивали на мысль о стригущем лишае. Обругав шофера, угомонился и разомлел Борис. Посапывали старатели. Лишь Хирург, несмотря на однообразное течение природы за окном автобуса, обрел какую-то нежную ясность воспоминаний. Целитель словно бы возвращался душою назад, в те благостные росистые утра пролетевшего таежного лета, когда солнце еще дремало за спинами замшелых сопок, а он и его ребята уже швыркали мокрыми ножами кос среди пахучей болотной травы. С каждой отсечкой зубчатая стена леса приближалась на один шаг, вспыхивала синим огнем гряда дальних гор, а грудь наполнялась густым свежим воздухом. Ранние птицы размывали темно-зеленые тени, дробили их тонкими хрустальными трелями. В то короткое время тяжести, покоя и влаги перед восходом солнца тугая волна неведомого, таинственно прекрасного плыла по всему окрестному миру, благословляя живущих на земле достойно встретить и достойно прожить каждый нарождавшийся день.
Перед тем, как взять в руки косу, Хирург обязательно возносил от сердца молитву, сочиненную им еще в лагере, улетал для приветствия и благословления к небесному Отцу сквозь неведомые миры и лишь затем, вернувшись, брал приготовленный заранее, отточенный, привычный инструмент.
Потом на местах покосов вырастали острые, позолоченные солнцем, копешки, стоявшие стройными рядами, как молодые солдаты. Эти жарко дышащие после просушки копны укладывали на две длинные жерди-волокуши, впрягались в них за неимением лошадей сами и тащили по кочкам, обливаясь потом, тяжелый груз к местам будущих стогов.
Работа, прямо скажем, была не из легких. Но Хирург вспоминал о ней с любовью и почтением. В лагере ему приходилось трудиться и бухгалтером, и учетчиком, и завскладом, что не требовало особого физического упорства, но тюремный труд, какой бы он ни был, не приносил памяти счастья и с нею не уживался. Напротив, таежная работа прочно откладывалась в сердце, как нечто дорогое и незабвенное.
Хирург вспомнил, как перед самым нерестом горбуши, когда обнаружился хищный, похожий по окрасу на тигра голец, неподалеку от их стоянки стала появляться счастливая, но строгая мамаша-медведица с веселым медвежонком, за всякую проказу лупившая свое чадо чисто по-человечьи – лапой по заднице.
Целитель выбирал время, когда медведица с малышом удалялись к речке на охоту, и относил к их лежбищу в стогу сена то сгущенку, то банку тушенки.
Иногда приходили лоси и смотрели на людей большими ореховыми глазами, таившими мудрость, спокойствие и осторожность.
Была у Хирурга и давняя подружка – черная белка, с которой он приятельствовал уже несколько лет, расставаясь лишь на долгую Колымскую зиму. Хирург дарил ей подарки: крупу, сахар, конфеты и разговаривал с нею, неуемно сновавшей с ветки на ветку, о ее, беличьей, и о своей собственной жизни. Сейчас эта живая память грела его сердце под дружный аккомпанемент храпевших старателей.
В автобусе жарко пахло бензином, металлом, вином и сигаретным дымом. Сопки что древние мамонты – медленно ползли одна за другой, утверждая неколебимость вечности. Сколько миллионолетий торчали они тут, на этой земле – одному Богу было ведомо. Но каким ветром нанесло сюда вселенскую пыль, осевшую в стылой Колымской земле в виде пустого праха тысяч людей, растаявших здесь без следа? Какой волной выкатило к подножьям сопок малые песчинки в образах Боцмана, Василия, его самого, Хирурга? А главное – зачем? Что явилось целью? Ведь просто так ничего не бывает.
Под лучами мыслей Хирурга покатые, стесанные пирамиды гор превращались, сохраняя очертания, в голубой дым, в котором он с интересом разглядывал некие причудливые очертания, таинственную материализацию памяти, где люди, события, даже медитация с прошлым и будущим обретали чудесную органическую плоть.


