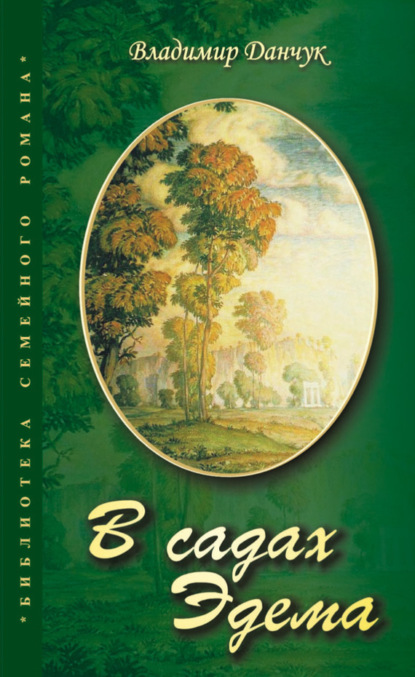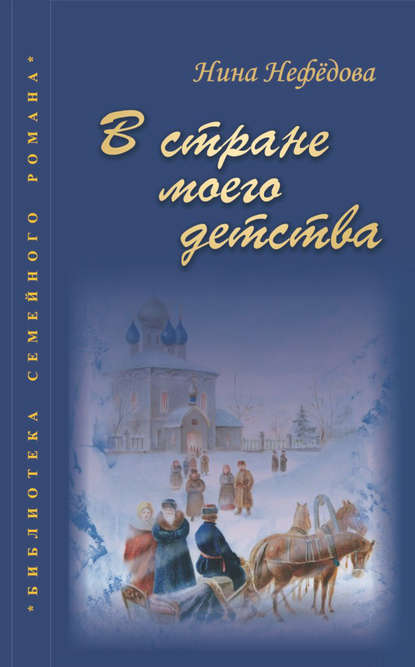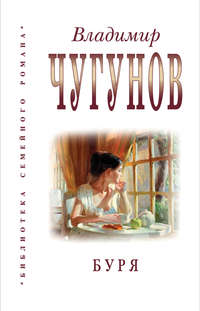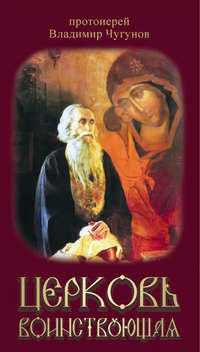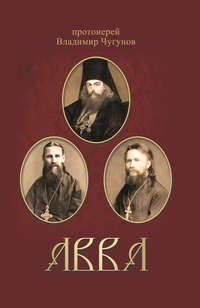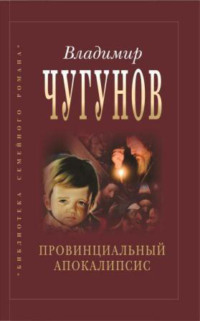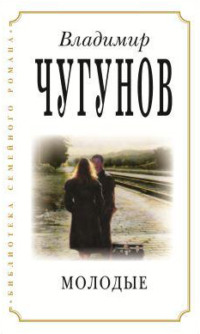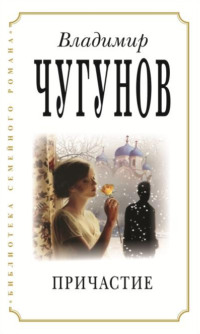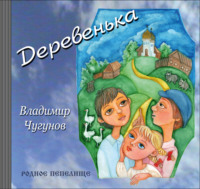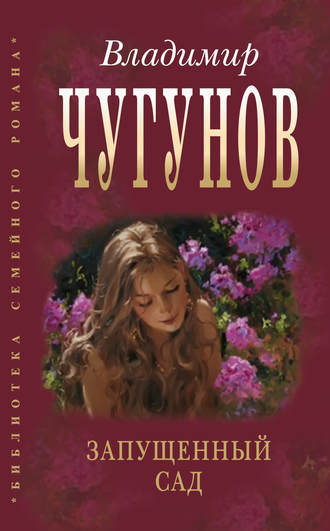
Полная версия
Запущенный сад (сборник)
6
Солнце перерезано пополам тонким сизым облачком, стоит над самым горизонтом, ниже того места, где расположен верхний порядок. Оно бледно-розовое, призрачное, печальное. Лёгкие сумерки, ни ветра, ни шороха. С той стороны, где мы с Сашком предполагали город, отдалённо доносятся весёлые девичьи голоса и переборы гармони – из соседней деревни к нам идёт на гулянье молодёжь.
Мы с Сашком сидим на крылечке Светланкиного дома. Светланка в чистом платьице. Весёлая процессия входит в деревню. Девки идут, взявшись под руки, во всю ширину. В середине высокая, чернобровая, черноволосая, не знаю, как её звать, и назову хоть Шурочкой. Голос её сочный, густой. Парни точно так же, только не под руки, идут следом. Гармонист между рядов. По ту и другую стороны порядка на завалинках, на лавках или как и мы на крыльце сидят старики и старухи. Точнее, почти одни старухи, потому что стариков в деревне почти нет.
Поют частушки в основном девки, парни отвечают редко, а вот семечки грызут бойко.
У миленка моёвоПоговорочка на «о».Он на «о», и я на «о»,Все равно люблю ёво!Сашок лыбится. Светланка косится на меня – и меня это начинает беспокоить.
Гармонисту за игру —Табуретку синюю.Четыре сына, восемь дочекИ жену красивую.Парни смеются. Светланка ёрзает и будто нечаянно задевает меня плечом. Я отодвигаюсь, показываю ей кулак и говорю:
– Ещё раз толкнешь, получишь!
– Сам получишь!
Хриплым, пропитым голосом запевает гармонист:
У меня девчонок много,Как в корзиночке грибов.Только я к одной имеюНастоящую любовьЕму тут же отвечают:
Гармонист у нас хороший,Я его приворожу:Я возьму и на гармошкуДве ромашки положу.Дойдя до конца деревни, возвращаются назад. И так до наступления темноты. Солнце давно скрылось за холмом, стала темнее полоска леса, проклюнулись звезды. Кое-где уже светятся едва приметным заревом оконца. По одному расходятся старухи. Песни тонут за деревней. Мы с Сашком идём домой. И я очень рад, что, наконец, избавился от Светланкиного внимания.
Спускаемся проулком, выходим на зады. Сашок вдруг замирает.
– Слысыс?
– Чего?
– Сопот слысыс?
Спускаемся ниже. За усадами, в бурьяне, стоит с кем-то Шурочка. Я сразу узнал её по голосу.
– Ты ай белены объелся? – говорит она кому-то.
Шёпот. Возня. Шлепок.
– Ой! Ктой-то там?
Мы летим вниз, и ноги мои едва за мной поспевают. Вслед нам летит разбойничий свист. Мы перебираемся по жердям на ту сторону, и только на родном берегу мне становится спокойно.
– Чего это они там? – спрашиваю я.
– Зазымаюца.
– Зачем?
– Ну спелва зазымаюца, апосля зеняца.
7
Едем в лес за сеном. Бежит вдоль ржаного поля пепельная лента дороги. Лошадь идёт бодрым шагом, ровно катится по мягкой пыли телега. Пыль летит из-под копыт, брызжет по сторонам. По ржи волнами ходит ветер, приятно обдувает лицо, шею, и если бы не строка, было бы полное блаженство. Откуда-то сверху льётся пение жаворонка. Задираю голову и вижу крохотную, дрожащую в небе точечку. Правит Сашок, и время от времени покрикивает, как взрослый:
– Посла! Но-о, лазлази тибя глом! Я кому говолю? Посла, говолю, халела!
Я сижу рядом и краем уха слышу разговор деда с дядей.
– Я тебе, Степан, давно не указ, у самого дети малые, но как отец всё же скажу. Коли в избу пустить свинью, она своё поганое дело сделает. Всё вверх дном перевернёт, всё опрокинет. А и выгонишь, не сразу порядок наведёшь. Так и в жизни, Степан. Смотри. Не пускай свинью в душу. Семья – дело святое, смотри…
Дядя сидит явно недовольный и всё отворачивается от дедушки. И когда отворачивается, рот его кривит нехорошая улыбка.
В лесу ветра нет и на поляне поэтому очень жарко. Звонко-оглушительно стрекочут кузнечики, поют птицы, стучит в отдалении дятел. Пока навивают воз, мы собираем конопатые ягоды луговой земляники, пресной, хрустящей на зубах как песок. Потом забираемся наверх, на дрожащую громаду пахучего сена и, уцепившись за гнёт, смотрим по сторонам. На возу так высоко, что ступни ломит от страха.
8
Дедушка только что вычистил самовар и, сидя на крылце, поглаживая сияющее на полуденном солнце самоварное брюхо, рассуждает вслух:
– Самовар – незаменимая вещь в избе. Ишь, как блестит! Ну, блести, милок, блести… Вот, к примеру, на морозе назябнешь, ступишь в избу – а на столе самовар сипит. Хошь руки об ёво грей, хошь выпей весь. А после бани? О-о! После бани без самовара вообще тоска. А вода в ём от березовых углёв какая лёгка! Пьёшь и всё хочется.
Мы не возражаем. За самоваром бабушка нас одаривает колотым сахаром, а по праздникам – «подушечками» и «печенюшками».
Когда дедушка уносит самовар, идём за дом, где в специально вырытой квадратной, на штык глубиной, канаве тетушка месит ногами грязь – глину, солому, песок. Затем накладывает месиво в ведро и кидает рукой на плетёную из тальника стену хлева. Брызги отлетают мне в лицо, прилипают и тут же засыхают щекочущими коростами.
Появляется дядя.
– Помочь? – спрашивает он, весело-виновато бегая туда-сюда глазами.
Хочет взять у тетушки ведро, она со всей силы дёргает его на себя, оступается и чуть не падает.
– Чё цеплясся? – кричит она, раскрасневшись. – Ишь вцепился клешнями-то, как в своё!
– А то – чужое… – ненастойчиво возражает дядя.
– Сказала бы я тебе, да дети рядом!
Дядя будто только теперь замечает нас.
– Это откуда взялось? А ну марш! Марш, кому говорю?
Мы удаляемся с повернутыми назад головами.
9
– Ну и посол в оголот к бауски под юбку! – говорит с презрением Сашок, и я соглашаюсь.
По дороге братец уверяет меня, что мёд там хоть ложкой черпай.
– Я узэ, навелна, целое ведло созлал! – говорит он и подтягивает штаны.
Сползают они у него вовсе не оттого, что широки, а оттого, что живот у него постоянно то надувается, то опадает, угадать невозможно. Ест же он всё подряд, без разбору. И всякий раз, похлопывая себя по животу, приговаривает: «В лусском пузе всё сгниет!» И, по словам бабушка, ни одна холера его не берёт.
– А если он нас в свиней превратит?
Я боюсь не столько пчёл (я ещё не знаю, что они жалят), сколько колдовских чар Ивана Зыбина, на пасеку которого направляемся есть мёд.
– А клест на сто? – храбрится Сашок. – Мы ёво клестом, он и сдохнет, как сильвяк!
Ульи на задах, у плетня, заросшего с нашей стороны репейником, конским щавелём, крапивой, лебедой, беленой. Кое-как минуем ферму, извозившись попутно в навозе, и пробираемся через бурьян к огороду. Какая-то пчёлка проносится мимо, потом ещё одна, и ещё. Добравшись до плетня, слышу мерное гудение. И тут разом кончается геройство братца. Он хватается за голову и, отмахиваясь руками, с визгом кидается назад. Пчёлы за ним. Я приседаю в надежде, что беда минёт стороной, но тут словно иглой колют мне под правый глаз. Пчела отрывается и начинает тяжело подыматься. Я вскрикиваю от боли и бегу следом за братом. Пчёлы носятся над нами, бьют в голову, в шею, путаются в волосах, жалят. Если бы не высокий бурьян, нам пришлось бы туго.
Домой возвращаемся с воем. Глова моя становится деревянной, словно кто сдавливает её со всех сторон. Глаз совсем заплыл, щеку тянет вниз и, как что-то прилепленное, она трясётся при ходьбе. Изверга тут же наказывают, а меня стыдят:
– А ежели он тебе в печь велит лезть, полезешь?
– Не-е, – реву, – В печь не полезу-у…
– И на том спасибо, – говорит дедушка, – Поди, жала выну.
10
Двое нас в комнате – я и Светланка. Почему мы вдвоём и никого больше нет, не знаю. Нам скучно, мы уже во всё переиграли и не знаем, во что бы ещё поиграть.
– В жених и невесту давай играть? – предлагает Светланка.
– Как?
– Эх, очень даже абныкнавенна. Ты будешь жених, а я невеста, и мы поженимся.
– Как?
– Эх, очень даже абныкнавенна – как все люди женятся.
– Как?
– Ну что ты расскакался, как маленький? Как, да, как! Очень даже абныкнавенна! Ты меня любишь? Ну, говори!
– Я не знаю.
– Как это ты не знаешь, ежели ты жених? Тоже мне, жених! Ну? Говори.
– Чего?
– Беда, прям, с тобой! Говори: я тебя люблю.
– Я тебя люблю.
– Ой! Я тебя тоже… Ну? Чего молчишь опять? Говори.
– Чего?
– Давай поженимся?
Я повторяю.
– Дава-ай… И чего стоишь опять, как пень?
– А чего надо-то?
– Как это – чего? Как это – чего? А целовать невесту, кто будет – дядя?
– Я не хочу.
– А зачем тогда говорил, что любишь?
– У тебя рот шершавый.
– А ты шибздик!
– А ты дура!
– А я тебя выше! – и она встает на цыпочки рядом со мной.
Я тоже встаю на цыпочки.
– Нет – я!
– Нет – я!
Спор заканчивается борьбой. Я побарываю Светланку, оседлав, раскидываю её руки во всю ширину.
– Ну, кто выше?
Она начинает хлюпать носом.
– Больно, что ли? Сама выше захотела быть, ну! Кто выше?
– Пусти, дурак!
– А ну повтори!
– А кто же ты? Невестов только дураки побарывают!
Я встаю и начинаю оправдываться:
– А я откуда знал? Ты же не сказала! И первая дразниться стала!
– А ты тоже! Хорош гусь! Замуж уговорил, а целовать не хочешь! Всё маме скажу!
– А я!.. А я – папе! А мой папа твою маму поборет!
11
Осень. Холодное беспросветное небо. Невесомый косой дождь, туман. Скучно на улице. Деревья голы, скелетной худобой оголились плетни. Не деревня – а пепелище. Дома черны, поля вокруг перепаханы.
Пасмурно и в избе. Сижу у печи и смотрю на костёр внутри. Не могу оторвать глаз. Когда прогорают дрова, бабушка разгребает угли по сторонам и ставит чугунок с похлёбкой, закрывает заслонку. Затем вываливает из дежи тесто на посыпанный мукой стол, срезает с боков длинным ножом. Небольшой кусочек теста опускает в крынку с водой – на закваску. Тяжело дыша, месит тесто. Утирает фартуком пот с лица. Через определённое время вынимает чугун из печи. Разбивает синеющие угли и сажает хлебы, укладывая их на капустные листы, чтоб не пригорали снизу.
Хорошо сидеть у печи, когда на улице сыро. Тепло, бездумно и так сладко-грустно на душе. В избе темно от бревенчатых стен, а печь празднично бела, и занавески на ней чистенькие, лишь ухваты рогато чернеют в углу да лежат на полу кочерга с совком.
Видя, что бабушка немного освободилась, прошу чего-нибудь рассказать.
– Уж и не знаю, право, чего… – по обыкновению отвечает она. – Разве что про звездочёта не баили…
– Который звёзды считал?
– Нет. Звездочёт тот вроде кудесника. Судьбу по звездам угадывал. Ну, слушай. Жил, стало быть, на свете звездочёт. Звали его… А вот, как звали, забыла, имя больно чудное, ненашенское. Допытался, значит, он по звёздам, что родился в Русалиме Царь Израиля. Продал всё, что у него было, а было не мало, не молоденький уж был, в годах, купил на вырученные деньги три камня-самоцвета, сел верхом на коня и подался к месту встречи с другими звездочётами. Не один он этим делом занимался, были и другие. Ну и сговорились сообща идти в Русалим. Дороги у них не то, что наши: леса дремучие, реки кипучие, пески сыпучие. Словом, нелёгок путь. И народ разный – и добрый, и недобрый. Не все Бога помнили. И в тех дремучих лесах водились разбойники. Едет он – и вдруг стал под ним конь. Глянь, а на дороге человек почти нагишом лежит. Голова в крови, стонет. Соскочил наземь звездочёт, втащил бедолагу на коня, назад поехал. Пока возился с ним, сроки и прошли. Он и не заметил даже. А когда спохватился – чуть не расплакался с горя. Спрашивает его тот, которого он из беды-то вызволил: «О чём горюнишься?» Так, мол, и так. «Ты, баит, не переживай так-то, а доподлинно мне известно из старинных книг, что в Вихлееме Иудейском должон народиться Царь Израиля. Ступай – там Его встретишь». Загорелась в нём надежда. Продал он один самоцвет, нарядил караван из верблюдов и в путь. Долго ли ехал, не знаю, но добрался-таки до Вихлиема… А маманьки, а батюшки! Это что же тут деется? Глядит, и глазам своим не верит. Бегают по улицам бабоньки с малыми ребятишками на руках. За ними царские солдаты гоняются. Детишек отымают и на глазах у матерей бьют головками оземь, иных мечами секут. Осатанели. Вбегает со страху звездочёт в рядошну избу, а там молодуха с мальцом мечется, не знает, куда сокровище единственное от беды схоронить. А солдатня уж тут как тут, сапожищами по приступкам топает. Взмолись она: «Спаси сынаньку, мил человек, Господь тебя не оставит». Сжалился над ней звездочёт, достал второй самоцвет, сунул начальнику, что над солдатами командовал. Ушли. Спрашивает он её: это что тут такое? И поведала она ему о рождении необыкновенного Младенчика, о том, что приходили к Нему на поклон мудрецы, похожие обликом, мол, на тебя, человек добрый. А как узнал про то Ирод-царь – велел всех малышей сничтожить. «И что, баит, неужто убили Его?» – «Нет, мол, батюшка, а слышала я, бежали они всем семейством в Египет». И подался звездочёт туда. Не близок путь до Египта, но и там звездочёт не застал никого. И долго с тех пор ходил по свету в поисках своего Царя. Седым стариком уж прибыл на праздник в Русалим. Глядь, а и тут неладное творится. Бежит по улицам народ, кричит: «Казнь! Казнь!» И когда прознал, сердешный, кого на кресте распяли, как последнего разбойника, опустился на камень, что при дороге лежал, да заплакал. И почто только столько лет бестолку скитался? Кому нужен его самоцвет? Достал его из кармана, повертел в руке и хотел бросить с досады, да услышал крик. Смотрит: ведут солдаты невольницу, с виду его краев уроженку. Признала и она земляка, в ноги кинулась: спаси, помоги. Он и выкупил. Остались вдвоём. И двух слов смолвить не успели, как затряслась земля, посыпались камни с высоких стен Русалима. И надо такому случиться, один камень возьми и угоди в голову звездочёту. Повалился сердешный наземь с окровавленной головой. Молодка склонилась над ним. И вдруг слышит, как он в своём предсмертном часе глядит куда-то вверх и спрашивает кого-то: «Это когда же я видел Тебя жаждущим и алчущим, или в темнице и помог Тебе?» И тут лицо его просияло как солнце в полдни. «Так это, баит, был Ты?» – и помер.
Бабушка смахивает набежавшую слезу. Я тоже весь во власти воображения. И смерть, эта страшная смерть уже не кажется мне такой страшной, как прежде.
Бабушка встаёт с табурета. Прихватывая тряпицей, снимает с творила заслонку. По избе растекается запах печёного хлеба, аппетитный, так и сглатываешь слюну. Бабушка поддевает хлебы деревянной лопатой, кидает на стол и слегка смазывает куриным пером топлёным маслом, которое тут же впитывается в корку, треснувшую где-нибудь сбоку, и накрывает хлебы полотенцем преть.
Угли задохнулись в печи, почернели. Бабушка выгребает их, складывает в ведро, а потом в специальный сундучок с другими углями. Часть засыпает в самовар, запаливает лучины и, кинув их в горловину, приставляет трубу, втыкая её одним концом в самовар, а другим в «тягу» на печи. Самовар потный от холодной воды, тускло блестит медью.
– Это штой-то задумался? – спрашивает она его немного погодя.
Снимает трубу, заглядывает, а потом, сложив вчетверо полотенце, хлопает по горловине, как порой Сашке по голове. Приставляет трубу на место. Самовар, наконец, начинает сопеть, издаёт тоненький свист, поверхность подсыхает, становится зеркальной, и я строю рожицы кривому мальчику с широким, как у китайца, носом и сплющенной сверху головой. Когда самовар закипает, бабушка снимает трубу и накидывает заглушку – из пароотвода летят брызги.
12
Сквозь запотевшее оконце сочится тусклый осенний свет, на улице пасмурно и холодно, а здесь, в протопленной баньке, с выстоявшимся смолистым духом, жарко и уютно. Стены, потолок, каменка – всё чёрное, закопчённое. Тихо посапывает каменка. Дедушка трясёт над ней веником – подсушивает.
– Не жарко? А то поди в предбанник. Попарюсь, потом вас помою.
– Не-э, не жарко… – храбрюсь я, сидя на корточках на полу.
Тельце моё раскраснелось от жару. Я закрываю рот ладошками, чтобы не так горячо было дышать. Сижу на корточках, склонив голову меж колен. Пот бежит по лицу, попадает в глаза, в рот. Солёный, вкусный. Тело моё тоже покрывается капельками, как трава росой. Капельки набухают, а затем стекают грязными ручейками. Дедушка зачёрпывает из таза, где недавно парился берёзовый веник, и плещет на каменку. Камни взрываются белым облаком, пепел вместе с жаром садится мне на спину. Я дышу часто-часто и всё одно задыхаюсь.
– Деда, жа-арко, деда, – хнычу я и ползу к дверям.
Дедушка осторожно, чтоб не обжечься о пар, слезает с полки и отворяет мне дверь. Я быстро выползаю в предбанник, дверь захлопывается.
«А как в Аду?» – думаю я, припоминая бабушкины истории о мучениях грешников. Предбанник мне теперь представляется Раем.
Сашок сидит на лавке и наблюдает за мухой, которой он оторвал одно крыло. Муха прыгает, переворачивается на спину и дрыгает лапками. Братцу это кажется забавным. Я сажусь на лавочку, устало опускаю руки на колени. Плечи тяготит, голова кружится, сердце бьётся сильно, слегка подташнивает.
– Сто, упалилса? – спрашивает Сашок.
Он уже замёрз сидеть тут, кожа на нём гусиная, а всё равно не идёт в баню, боится.
– А жарко как!
– У нас самая залкая баня в дилевне, – хвастается брат. – А папка ыссо сыбсе палица. Лас, лас себя веником-ти. Выбезыт – и в снегу валяца. А потом ыссо палица.
– А ты что не паришься?
– У меня баска клузыца. Один лаз я дазы о сюгунок тлеснулся. А вылосту, тозы буду палица.
Минут через десять выходит дедушка. Он долго сидит отпыхиваясь и постанывая, глядя нас мутными глазами. Наконец приходит в норму, открывает отдушину, слегка выстужает баньку, и тогда мы с Сашком идём мыться. Сначала дедушка моет нас самих (как обычно в банях), а уж потом, под конец, наши головы. Моет щёлоком, который получается, если печной золы положить в воду, когда она осядет, постоит, получится щёлок. Волосы от него становятся мягкими, нежными, как шёлковистый кукурузный покров на початках.
Из баньки выходим затемно. И я, шагая по тропке, среди вишен, чувствую своё горящее лицо, лёгкость и приятную задумчивость в голове. На столе блестит самовар, чаёк душистый, со смородиновым листом. Сахар наколот маленькими кусочками, которые долго и приятно тают во рту, когда прихлёбываешь из блюдечка. Пот бежит по лицу, и я вытираю его полотенцем.
13
– Сидит это она перед зеркалом в бане, спиной к двери. Глядит, отворяется дверь и входит суженый. Касивый, нарядный, статный. Залюбовалась она на него и забыла зеркало-то перевернуть. Он ей ожерелье на шею одевает, норовит обнять, тут уж она испугалась, перевернула быстренько зеркало, глянь – а на шее удавка. Ещё бы чуть-чуть и задушил.
– А я помню, в девках забежишь за амбар, портки снимешь, голу задницу выставишь за угол и ждёшь. Коли мягкой лапой погладят, богатый жених будет, а шершавой, так – бедный. Так кто-то шутейно раз и приложи мороженой лопатой, три дня сесть не могла. Девки смеются: «Нюр, богатый ли жених выпал?»
Мы с Сашком ловим с печи каждое слово. Разговор начинается потихоньку. У того корова приболела, вымя твёрдое, серпу не жуёт. У того овца отбилась от стада ягниться в лес, и третий день не выходит. Но когда тьма становится гуще в прорези белых занавесок, в избе словно пропадают стены, мрак по углам, жёлтое пятно ползает по закопчённому потолку, над поскрипывающим зонтом керосиновой лампы. В красном углу заветно порхает спасительный огонёк лампадки. Речь заходит про Ивана Зыбина. Женщины спорят. Одни говорят, враньё, другие, нет, в самом деле, замечали неладное.
– А вот что дедушка тяте сказывал после соборования. Дело у него вышло по молодости с Зыбиным-старшим, что летось на огороде помер с полным ртом земли. Был, говорит, я тогда лет шестнадцати, было у них семеро детей в семье и все девки, он поскрёбыш. Баловали его сызмальства, а в лета вошёл, совсем от рук отбился. Отец видит, маху дал, завёл разок в амбар, да отходил плетью. Два дня лёжкой лежал. А чего добился? Нет, ты учи дитя, пока поперёк лавки лежит. Только озлился парень. «Погоди, думает, тятька, отольются тебе мои слёзы!» Замкнулся. А тут старик Зыбин, как ворон добычу учуял. То да сё, и уговорил малого. Сладились сойтись в полночь у того на сеновале. Приходит, а старик уже ждёт. «Летучая мышь» чуть горит. Лошадь фыркает, копытом бьёт. А собаки по деревне развылись – страсть. «Готов, парень?» – Тот: сказал, дак чё? «Сымай, говорит, крест». Снял. «Клади под левую пятку». Не ослушался. «А теперь, говорит, прыгай». Тот глянь: а под ним геенна огненная. Он со страху-то и перекрестись. Так куда чего делося. Старик аж задрожал от злости: «Догадался, щенок!»
– А ну тя, Нюра, врёшь ты всё! – машет на неё рукой бабушка, а сама крестится.
Нюра божится, вытараща глаза. Все молчат. Тихо. Когда немного уляжется страх, подпустят ещё. Мы ни живы, ни мертвы. Но больше всех мне нравится слушать бабушку, проникновенный певучий голос её у всех вызывает слёзы, не важно, о чём бы ни заговорила.
– Шла, стало быть, Она, Заступница наша, под видом странницы по заметеленной дороге, – начинает бабушка, глядя куда-то в угол, са ма в необыкновенном волнении, точно всё это сейчас и происходит у неё перед глазами. – Ночь выдалась морозная, ветер колючий да хваткий. Подходит она к одной деревеньке, где жили не то кулугуре, не то татаре, Бог весть, что за люди такие, только все, как один, непутёвые. Стучится в крайнюю избу: «Пустите, люди добрые, переночевать». «Самим спать негде. Иди своей дорогой», – был ответ. Во втором дому ещё и обругали. В третьем собакой давай травить. И так вся деревня. Она же просто измучилась от долгого пути, шла спасать грешников по распутьям и никто Её признать не хотел. Зашла Она на зады, села и заплакала. И вот, откуда ни возьмись, набежала на деревню туча, загремел гром, засверкали молнии. Пророк Божий Илья, заступник обиженных, разгневался на жестоких жителей. Запылала деревня. Понеслось пламя по ветру от избы к избе. Поскакали все на волю, кто в чём был, скотину с хлевов выпустили. Крик, стон, скотина ревёт, а слёз что!.. Она же, Матушка наша, увидев горе народное, сжалилась над непутёвыми. Не вмещало Её сердечко обид. Сняла с себя покров, подняла на руках. Увидел Илья спасительны омофор – и отступился.
Напряженное молчание, вздохи, всхлипывания и сквозь слёзы Нюрино:
– А-и мы-те все хуже татарвы: нелюбовные, неблагоданые, завидущие!..
14
Подходит, наконец, день разлуки. Не знаю, так ли мне хочется домой, в свой пригородный «совхоз», но на душе у меня тоска который день подряд, куда-то всё тянет, чего-то хочется. Я многое уже начинаю понимать иначе. Как? Этого я ещё объяснить не могу. И только всё чаще как бы с удивлением оглядываюсь вокруг, словно в ожидании подарка. Бабушка все вечера напролет рассказывает свои истории, но они уже не так действуют на меня, я скучаю и даже порой плачу по ночам.
Но вот подкатывает к дому «Победа», которую отчим взял напрокат. Появляется мама. Я реву и жмусь к её ногам.
– Эх ты-ы, ревушка-коровушка, дай молочка, – говорит мама, гладя меня дрожащей рукой по голове. – Погляди лучше, кого мы тебе привезли! Сестрёнку Ирину.
Глянув на перевязанное красной атласной лентой одеяло, я ещё пуще заливаюсь слезами.
– Не хочу Ирину, хочу домо-о-ой…
Все входят в избу. Ирину определяют в люльку, которую принёс откуда-то дядя Степан и приладил на веревках к кольцу в матице, распеленывают. Я подхожу и с неприязнью разглядываю малышку. Лицо коричневое, нос пу говкой. Я злюсь непонятно от чего и всё мечтаю обрезать ножом верёвку, чтобы люлька с сестри цей грохнулась об пол. Но вскоре сестра просыпается. Мы смотрим друг на друга, она улыбается, открыв потешный беззубый рот, злость моя проходит, и всё время до нашего отъезда я нянчусь с сестрицей, трогаю украдкой от мамы «грязными руками» её розовые прозрачные пальчики, пятки, мягкие, как у Барсика, помогаю купать, подавая то мыло, то ковш.
И вот уже – ясный погожий денёк, бабье лето, летят по воздуху паутинки, садятся на голые кусты смородины, на стебли пижмы, полыни. Нас провожает почти вся деревня. Бабушка закладывает снедью всё свободное пространство в машине. Прощаясь, плачет. Дедушка подымает меня на руки и, вынув из кармана пастушью дудку, дарит на память.
– Держи, пастухом будешь!
– Ещё напророчишь… – возражает мама.
– Не забудешь дедушку?
Я изо всей силы трясу головой.
Сашок незаметно суёт мне в карман рогатку.
В машине долго смотрю в заднее стекло. Едем. Сашок несётся следом, остальные стоят на дороге, сиротливо склонив головы.