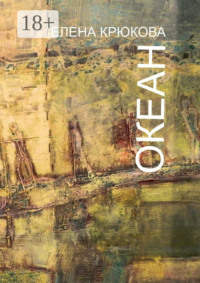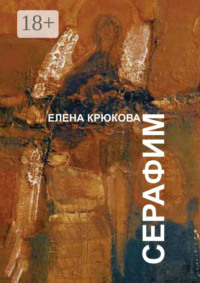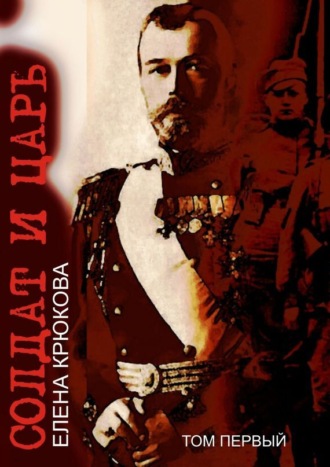
Полная версия
Солдат и Царь. том первый
И то вспоминал, как, уже на подходах к Тюмени, уже Пышму проехали, и Пашка уже расчесывала свои густые, что хвост коня, серо-русые, прямо сизые, в цвет груди голубя, волосы, к прибытию готовилась, вещевой мешок уж собрала, и тут состав внезапно затормозил так резко и грубо, что люди попадали с полок, орали, кто-то осколками стакана грудь поранил, кто-то ногу сломал и тяжко охал, а кто стукнулся виском и лежал бездвижный – может, и отошел уже, – и Пашка тоже упала, гребень вывалился из ее руки и выкатился на проход, и бежали люди по проходу, кричали, наступили на гребень, раздавили. А Пашка стукнулась лбом, очень сильно, и сознание потеряла, и он держал ее на руках и бормотал: Пашка, ну что ты, Пашка, очнись, – и губы кусал, а потом добавил, в ухо ей выдохнул, в холодную раковинку уха под его дрожащими губами: Пашенька.
А она ничего не слыхала; лежала у него на руках, закатив белки.
И то помнил, как на одном из безымянных разъездов – стояли час, два, три, с места не трогались, все уж затомились, – кормила Пашка на снегу голубей, крошила им черствую горбушку, голуби все налетали и налетали, их прибывало богато, и откуда только они падали, с каких запредельных небес, какие тучи щедро высыпали их из черных мешков, – уголодались птицы, поди, как и люди, – а Пашка все колупала пальцами твердую ржаную горбушку, подбрасывала хлеб в воздух, и голуби ловили клювами крохи на лету, а Мишка смотрел на это все из затянутого сажей окна, и сквозь сажу Пашка казалась ему суровым мрачным ангелом в потертой шинели, что угощает чудной пищей маленьких, нежно-сизых шестикрылых серафимов.
Вот именно тогда, глядя на нее в это закопченное вагонное окно, он и подумал – вернее, это за него кто-то сильный, громадный и страшный подумал: «Да она же моя, моя. А я – ее».
* * *
Пашка, если не в карауле стояла, часто сидела у окна комнаты, где жили стрелки. Она-то сама ночевала в другой каморке – ей, как бабе, чтобы не смущать других бойцов, Тобольский Совет выделил в Доме Свободы жалкую крохотную комнатенку, тесную, как собачья будка; но кровать там с трудом поместилась. В этой комнатенке они и обнимались – и Лямин смертельно боялся, что Пашка под ним заорет недуром, такое бывало, когда чересчур грозно опьянялись они, сцепившиеся, друг другом.
Никогда при свиданьях не раздевались – Михаил уж и забыл, что такое голая совсем, в постели, баба; обхватывая Пашку, подсовывая ладони ей под спину, жадно чуял животом то выгиб, то ямину, то плоскую и жесткую плиту ее живота.
Животами любились. Голую Пашкину грудь и то видал редко – раз в месяц, когда на задах, в зимнем сарае, где хранили дрова, разрывал у нее на груди гимнастерку и приникал ртом к белой, в синих жилках, коже цвета свежего снега. А Пашка потом, рьяно матерясь, собирала на земле сараюшки оторванные пуговицы, поднималась в дом и сидела, роняя в гимнастерку горячее лицо, и, смеясь и ругаясь, их пришивала к гимнастерке суровой нитью. Сапожная толстая игла мощной костью тайменя блестела в ее жестких и сильных пальцах.
И, когда свободный час выдавался, Пашка заходила в комнату к стрелкам и садилась у окна.
И так сидела.
Ей все равно было – толчется тут народ, нет ли; не обращала вниманья на курево, на матюги, на размотанные вонючие портянки на спинках стульев; на то, что, завидев ее, стрелки весело кричали: а, вот она, наша мамаша! пришла! явилось ясно солнышко! ну садись к нам поближе, а в карточки шуранемся ай нет?!.. – на эти крики она не отвечала, молчала, придвигала стул ближе к окну – и, как несчастная дикая кошка, отловленная охотником и принесенная в дом, к теплой печи и вкусной миске, в теплую и навечную тюрьму, тоскливо, долго глядела в лиловеющее небо, на похоронную белизну снегов, на серые доски заплота и голые обледенелые ветки, стучащие на ветру друг об дружку.
Сидела, глядела, молчала.
И чем громче поднимались вокруг нее веселые молодые крики – тем мрачнее, неистовее молчала она.
А когда в комнату стрелков входил Лямин, у нее вздрагивала спина.
Он подходил, клал пальцы на спинку стула. Она отодвигалась.
Все в отряде давно знали, что Мишка Лямин Пашкин хахаль. Но она так держалась с ним, будто они вчера спознались.
Он наклонялся к ее уху, торчащему из-под солдатской фуражки, и тихо говорил:
– Прасковья. Ну что ты. У тебя что, умер кто? Ты что, телеграмму получила?
Она, не оборачиваясь, цедила:
– Я не Прасковья.
– Ну ладно. Пашка.
Лямин крепче вцеплялся в дубовый стул, потом разжимал пальцы и отходил прочь.
И она не шевелилась.
Бойцы вокруг, в большой и тоскливой, пыльной и вонючей комнате были сами по себе, они – сами по себе. Крики и возня жили в грязном ящике из-под привезенных из Питера винтовок, забросанном окурками и заплеванном кожурою от семячек; их молчанье – в золоченой церковной раке, и оно лежало там тихо и скорбно, и вправду как святые мощи.
А может, оно плыло по черной холодной реке в лодке-долбленке, без весел и руля, и несло лодку прямо к порогам, на верную гибель.
* * *
– Подъе-о-о-ом!
Царь уже стоял на пороге комнаты, где они с царицей спали. Как и не ложился.
Бодр? Лицо обвисает складками картофельного мешка. Кожа в подглазьях тоже свисает слоновьи. Мрак, мрак в глазах. Рукой от такого мрака заслониться охота.
Михаил внезапно разозлился. И когда оно все закончится, каторга эта, цари? Устал. Надоело. Замучился. Да все они тут, все, тобольский караул…
– Все мы встали, дорогой… – Помедлил. – Товарищ Лямин.
Такие спокойные слова, и столько издевки.
Михаил чуть не загвоздил царю в скулу: рука так сильно зачесалась.
Был бы мужик напротив, красноармеец, – такой издевки б не спустил.
– Давай на завтрак! Все уж на столе! Стынет!
«Накармливай тут этих оглоедов. И раньше народу хребет грызли, и сейчас жрут. Нашу еду! Русскую! А сами, немчура треклятая!»
Уже беспощадно, бессмысленно матерился внутри, лишь губы небритые вздрагивали.
Царь посмотрел на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросил:
– А почему вы, товарищ Лямин, называете меня на «ты»?
Было видно, как трудно ему это говорить.
А Лямину – нечего ему было ответить.
…Когда в залу шли, гуськом, чинно, девицы в белых передничках – расслышал, как странно, тихо и глухо, на собачьем непонятном языке, переговариваются Романов с Романовой.
Потом – будто нехотя – по-русски забормотали.
– От Анэт письмо. Боричка жив, здоров.
– Какой Боричка? Теософ?
– Друга нашего друг.
– А, понял. Дай-то Бог ему. Да ведь он пулеметчиком?
– Все, к кому прикасалась рука Друга, священны.
– Знаю. Он жениться на Анэт не собрался?
– Нет. Лучше того. Он скоро будет здесь. У нас.
– Вот как. И зачем? Зачем нам революционер? Это чужак.
– Ты не понимаешь. Он родной. Деньги нам везет.
– Деньги? Какие?
– Анэт собрала. Но я ему не верю. Я боюсь.
– Чего ты боишься, душа моя?
– Всего. Возможно, Боричка ставленник Думы. А может, и Ленина.
– Пфф. Ленин – странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Он сгинет, упадет с балкона и разобьется. Я не держу его всерьез. Аликс, верь Анэт, она не подведет.
– Я… – Тут они оба перешагнули порог столовой залы, она чуть раньше. – Я верю только Другу. Он из-за гроба ведет нас.
Войдя в залу, замолкли. На столе стыла скудная еда: гречневая рассыпчатая каша, куски ситного без масла, жидкий чай в стаканах с подстаканниками.
Расселись. Девочки разгладили передники на коленях. Как ненавидел Михаил эту их вечную молитву перед трапезой!
Он и сам так молился все свое деревенское детство; почему его с души воротило, когда цари вставали вокруг стола и складывали руки, и читали про «хлеб наш насущный даждь нам днесь», – он не понимал. Рты им хотел позатыкать грязным полотенцем.
«Я схожу с ума, я спятил. Я кощунник! Или уж совсем в Бога не верую? Спокойней, Мишка, спокойней. Это ж всего лишь люди, Романовы им фамилия, и они читают обычную молитву перед вкушением пищи. Что разбушевался, рожа красная?»
В зеркале напротив, в черном пыльном стекле с него ростом, видел себя, рыжий клок волос надо лбом, гневной дурной кровью налитые щеки.
Помнил приказ: за семьей досматривать везде и всегда, поэтому не уходил из зала. Бегал глазами, щупал ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что под зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасиином носу, золотые, червонные пряди в темных косах Марии, гречишное разваренное зерно, как родинка, на верхней, еще безусой губе наследника. Желтую грязную луну медного маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку с кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ела, будто плакала.
Жевали молча. Отпивали из стаканов.
– Молочка бы. Холодненького, – тоскливо и голодно, тихо сказал наследник.
Царь дрогнул плечом под болотной гимнастеркой.
Мариин профиль тускло таял в свете раннего утра. По стеклам вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаил стоял у двери, и не выдержал. Отступил от притолоки, каблук ударился о плинтус. Шаг, вбок, еще шаг. Он двигался, как краб, чтобы встать удобнее и удобнее, исподтишка, рассматривать Марию.
Она почувствовала его взгляд и закраснелась щекой. Он ждал – она обернется. Не обернулась.
А жаль. «Поглядела бы, хоть чуток».
Тогда бы, смутно думал он, – а что тогда? Завязался бы узелок? Зачем? На что? Сто раз она глядела на него. Улыбалась ему. А все равно он для нее – стена. Бревно, полено, грязная лужа. И никакая улыбка не обманет.
А правда, кто тут кого обманывает?
…Словно яма распахнулась под ногами.
«Царь – нас обманывал. Ленин – нас обманывает? Охмуряет? Куда тянет за собой? Потонули в крови, а балакают о светлом будущем, о счастливом… где все счастьем – захлебнемся… Мы – красноармейцы – обманываем царей: ну, что охраняем их. Утешаем! Мол, не бойтесь! А что – не бойтесь-то?! Ведь все одно к яме ведет. К яме!»
И еще ударило, в бок, под дых: к яме ведут всех нас, идем – все мы.
«Так все одно все мы… там и будем… раньше ли, позже…»
Между бровей будто собралась тяжелая горючая тьма, величиной со спелую черную вишню. И давила, давила. А нас обманывают командиры, продолжал тяжело думать Лямин, да еще как надувают: отдают приказ, а мы и рады стараться; а они за спиной в это самое время…
Что – они за спиной, – он и сам бы не мог толком сказать; но понимал, что приказ – это для них, черных людей, а для господ большевиков – может, и не приказ вовсе.
Господа! Товарищи! Он еще вчера был царской армии солдат. И вот, вот ужас. Он – над своим царем – которому подчиняться должен, дрожа, от затылка до пят, от ресниц до мест срамных и потайных, – сейчас хозяин! Конвоир – уже хозяин. Ведет, сторожит, бдит, – а фигура на прицеле. На мушке. Не убежишь. Слюну без спросу не проглотишь.
Яма, думал он потрясенно, яма, и делу конец.
Приказ отдадут тебя расстрелять – и в расход как миленький пойдешь.
Беляки Тобольск займут – и царь первый тебя укнокать велит.
Первый! Потому что ты над ним был, ты порушил порядок.
«Это не я! Не я! Это так сложилось! Так приключилось! Не мы так все придумали! Сладилось так!»
Мария утерла рот кружевным носовым платком, обеими руками, тонкими и сильными пальцами приподняла тарелку над столом и опять поставила на скатерть. Михаил слышал свое сопение. Так он шумно дышал, и нос заложило. Ему захотелось, чтобы она отломила своими быстрыми пальчиками кусок ситного и дала ему. Скормила, словно бы коню.
Он уже и морду вперед, глупо, сунул.
А яма под ногами все чернела, и он боялся шагнуть и свалиться в нее.
Зажмурился, головой помотал.
«Вконец я ополоумел! Дров пойти поколоть…»
На дворе солдаты пели громко, заливисто:
– Там вдали, в горах Карпатских,меж высоких узких скалпробирался ночью темнойсанитарный наш отряд!Впереди была повозка,на повозке – красный крест.Из повозки слышны стоны:«Боже, скоро ли конец?»Мария первой из-за стола встала. Вот сейчас обернула к нему лицо.
Нет, эта не обманет! Не будет обманывать! Никогда!
Лучше даст себя обмануть.
«А если я ей прикажу – под меня… ляжет?»
Яма под ногами исчезла. Вместо нее желто, тускло заблестели доски вымытого поутру пола. Баба Матвеева приходила, намыла; солдатка, щуплая, худая, рот большой, галчиный. С ней охрана и не баловала: такая тщедушная была, кошке на одну ночь и той маловато будет, скелетиком похрустеть.
– «Погодите, потерпите», —отвечала им сестра,а сама едва живая,вся измучена, больна.«Скоро мы на пункт приедем,накормлю вас, напою,перевязку всем поправлюи всем письма напишу!»Песня доносилась будто издалека, из снежных полей. Солнце головкой круглого сыра каталось в снятом молоке облаков, в набегающих с севера сизых голубиных тучах. Цесаревич тоже поглядел на Михаила.
«Черт, глаза как у иконы. Хоть Спасителя с мальца малюй! Да богомазов тех постреляли, повзрывали. Яма… яма…»
В глазах Марии он видел жалость, и он перепутал ее с нежностью. В глазах Алексея горело презрение. Две ямы. Две темных ямы.
А Пашка? Кто она, где?
…его яма. И падает в нее.
Лямин развернулся, как на плацу, и, топая сапогами, выкатился из залы. Вон от пустых тарелок, от крошек ситного на скатерти. Пусть баба Матвеева скатерть в охапку соберет да крошки голубям на снег вытрясет.
* * *
…Она ведь никакая не старуха. А все тут ее и видят, и зовут старухой; и в глаза и за глаза; и она, скорбно и дико взглядывая на себя в зеркало, тоже уже считает себя старухой – ах, какое слово, ста-ру-ха, как это по-русски звучит глухо, вполслуха… вполуха…
Будто мягкими лапами кошка идет по ковру.
Нет, это она сама в мягких носках, в мягких тапочках сидит и качается в кресле-качалке. И все повторяет: старуха, старуха, ста… ру…
Муж подошел к ней, положил ей руку на плечо, и кресло-качалка прекратило колыхаться.
Как всегда, его голос сначала ожег, потом обласкал ее.
– Аликс, милая. Вот ты скажи мне.
Она подняла к нему лицо, и оно сразу помолодело, прояснилось. Зажглось изнутри.
– Что, мой родной?
Царь выпустил ее плечо, отошел от кресла, продел пальцы в пальцы, сжал ладони и хрустнул запястьями.
– Я вот все думаю. Думаю и думаю, голову ломаю. Мы ведь с тобой веруем в Бога. Так? Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя…
Оба прочитали, крестясь, Символ веры – шепотом, быстро, отчетливо.
Слышали каждое священное слово друг друга.
– Чаю воскресения мертвых…
– И жизни будущаго века. Аминь.
Опять перекрестились. Перекрестили друг друга глазами.
– И что? Что? – Она не могла скрыть нетерпение, любопытство. – Что ты мне хотел сказать.
Царь пододвинул табурет ближе к креслу-качалке, сел на табурет верхом, как на лошадь. Хотел улыбнуться, и не смог.
Вздохнул и заговорил, заговорил быстро, сбиваясь, часто дыша, болезненно морщась, стремясь скорее, быстрее, а то будто опоздает куда-то, высказать, что мучило, жгло, давило.
– Вот Серафим Саровский. Батюшка наш Серафим. Преподобный… чудотворец. Отшельник. И пророк. Ты пророчество его помнишь, да, знаю, вижу, помнишь. И я все, все помню. Не в этом дело. И ту бумагу, что нам из шкатулки давали читать, ты же тоже помнишь. И я помню. Я не то хочу сказать. Я… знаешь.. долго думал, долго. Наконец вот тебе сказать решился. Мы веруем. И вся наша Россия, вместе с нами, веровала. В храмах – во всей нашей земле – молилась. Лбы все крестили. Посты соблюдали. Божий страх имели. Божий – страх! Это же самое главное. Нет Божьего страха – нет и человека. Нет человека – нет и… да, да… государства. Земли нашей нет без Божьего страха! Не может, не сможет она… выжить…
Царица слушала, боясь хоть слово упустить.
– И вот, милая, мы с тобой – веруем. Свято веруем! Молимся… каждодневно… и утром, и на ночь… и на службу нам разрешают ходить… иконы целуем… Вслух ты – детям – из Писания читаешь! Все, все делаем… как все русские люди всегда… Бог при нас… и что же?
– И что же? – неслышным шепотом повторила за мужем царица, надеясь, ужасаясь.
– Серафимушка… он предсказал будущее, да… и ты помнишь, ты же помнишь все, ну, что было в этом предсказании. Помнишь ведь?.. да?.. Он предсказал нам… смерть…
– Смерть, – шепотом повторила царица.
– Да, смерть! Но я… представь себе, я в это не поверил… не захотел поверить… Я… может, я святотатец!.. но я… не захотел поверить в нашу с тобой смерть, в смерть детей… Я верую в Бога, да… и ты веруешь… и дети наши веруют, да, да, мы так их воспитали, мы так их держали всегда, всегда, в страхе Божием… И я… вот сейчас, во все последние дни, и сию минуту, спрашиваю себя: и тебя, сейчас и тебя… спрашиваю: где же теперь Бог над Россией?
Царица хотела повторить: «Где же теперь Бог над Россией?» – и не смогла: губы не смогли вымолвить это. Царь смог, а она – нет. И опустила голову, голова внезапно стала тяжелой, чугунный пучок волос давил книзу, из него выпадали чугунные шпильки, чугунные волосы развивались и плыли по чугунной шее, по старым плечам, нет, ее плечи еще не старые, они еще красивые, она еще может носить декольте!.. старуха… ста… ру…
Он взял ее руки в свои, крепко сжал, и она чуть не вскрикнула.
– Где же? – повторил царь, весь сморщившись, покривив лоб, губы, и зажмурился, будто не мог перенести прямого, отчаянного взгляда жены.
– Я не старуха! – шепотом крикнула она ему прямо в лицо.
Ее зрачки медленно становились широкими и наполняли черной стоячей водой всю серую светлую радужку.
Он испугался, побледнел.
– Что ты, милая?.. что, хорошая моя?.. Да нет, ну какая же ты старуха… вспомни, сколько тебе лет… и я тебя… я тебя…
Он беззвучно шептал: люблю, – а она уже судорогой выгибалась в его руках, и он уже крепко обнимал ее, и, сильный, еще крепкий, хоть и исхудал на скудных харчах, брал на руки, грубовато, по-солдатски, как тащит солдат военную добычу, и вынимал из качалки, и нес на кровать. И целовал лицо, мокрое, уже страшное.
– Прости… не буду больше… зачем спросил… зачем, дурак, затеял этот разговор…
Собирал губами слезы с ее щек.
Она рыдала и повторяла:
– Я не старуха… я не старуха… я… не…
Вытирал ей лицо кружевным краем простыни.
* * *
Пашка то брала караул за Лямина, а ему шептала ласково: поспи чуток, отдохни получше, я за тебя постою, – то при всех обзывала его, громко и обидно, пентюхом и косоруким, если он вдруг, стаскивая винтовочный ремень с плеча, на пол винтовку с грохотом ронял.
То жарко и тесно обхватывала сильными, жилистыми руками – где угодно: в коридоре, у сарая, в комнатенке своей, – то ударяла кулаком ему меж лопаток, чуть не пинала под зад, орала: вон пошел, прочь от меня, сволочь, гаденыш, пяль на других баб буркалы!
Комиссар Панкратов то повышал им жалованье, и тогда они весело шелестели длинными, как простыни, бумажками – на них мало что можно было приобресть, да все-таки кое-что можно было, и бежали в лавку за водкой, папиросами, свежим хлебом; то орал на них недуром, грозился нерадивых застрелить собственноручно, – и особо наглый боец выступал из строя и, глядя прямо орущему Панкратову в лицо, кричал наперерез ему: «Стреляй! Меня!»
Сашка Люкин то протягивал Мишке папироску, блестя зубами, подмигивая лихо, – а то вдруг оскаливался на него не хуже крысы, шипел: «Знацца с тобой не жалаю! Это ты, ты у меня из сапога керенку украл! Пройда!» И подскакивал ближе, и давал Лямину зуботычину.
Боец Мерзляков то обнимался с бойцом Андрусевичем, а после с бойцом Буржуем, пьяно горланили за раскупоренной четвертью: славное мо-о-о-оре, священный Байка-а-а-ал!.. – то тузили друг друга, беспощадно, в кровь, и никто не знал, отчего и зачем повздорили.
…так все мы, думал Лямин: все мы такие, это наша природа, то густо, то пусто, то ласка, то битье, вот оно и все наше житье, – может, это только русские люди такие сволочи, а может, это на всей земле людишки этак себя ведут.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.