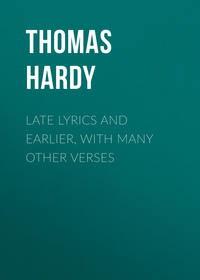Вдали от безумной толпы
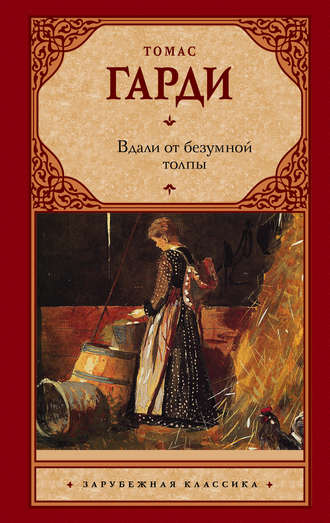
Полная версия
Вдали от безумной толпы
Жанр: зарубежная классикалитература 19 векалюбовный треугольникженские судьбывикторианская Англияромантическая прозаКниги от которых тепло на душе
Язык: Русский
Год издания: 1874
Добавлена:
Серия «Зарубежная классика (АСТ)»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу