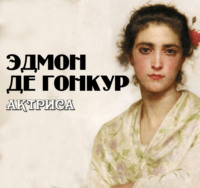полная версия
полная версияШарль Демайи

Эдмон Гонкур, Жюль Гонкур
Шарль Демальи
I
– Статью? Ты спрашиваешь, можно ли сделать статью из моей истории? Помилуй, да ребенок шести лет с завязанными глазами сочинил бы из неё комедию в стихах! Сцена первая: фойе Comédie-Franèaise… понимаешь… дом Мольера… Тальма… воспоминания… монологи, там, где Цезарь говорит со Скапеном, где Мельпомена берет веер у Талии, где, где… да этому конца нет! Перейден к нескромностям: Провост и Ансельм, играющие в шашки, ingénue, требующая мороженого, привратник, оказывающийся князем, наследником Тосканы, и мадмуазель Фикс, заставляющая его краснеть из-за того, что он сам не разоблачил себя, «Общество выкупа пленных»…
– Это еще что за общество?..
– Ты не знаешь его? Однако, это тайное общество… Угадай, кто обитает в фойе Comédie-Franèaise?.. Моллюски! Это ужасно! Раз они пристали, кончено. они вас увлекают в сокровенность своего разговора… Положим, мужчина или женщина, для моллюсков это все равно, Го, если хочешь, или мадемуазель Рикье, задетые Фраппаром или Бенстом, английским автором… очень хорошо! Член общества прибегает: извините! Я должен вам сказать одно слово… Спасен! говорит другой… И вот, что такое Общества выкупа пленных!.. На эту тему можно сочинить строк пятьдесят… Затем идут картинки фойе.
– Потом?
– Потом, потом? Ты выставляешь свою жену: знаменитую актрису… Ты ее не называешь… ты говоришь только: наша Селимена… Это никого не компрометирует!.. Наша Селимена; играла кудрями одного великого поэта… Тут инициал поэта… Надо непременно назвать поэта, иначе можно смешать его с простым смертным, пишущим стихи… Ты начинаешь диалог: «О, мой поэт, говорит Селимена, почему вы не пишете более ваших восхитительных комедий, которые только вы одни умеете так писать? За вашу роль, где мне было бы пятнадцать лет, я отдала бы десять лет моей жизни!.. Тут ты можешь вставить словцо: Селимена, вы от этого только выиграли бы. Перейдем к поэту. Поэт пообедал; он храпел в продолжение часу один в ложе на восемь мест, он выпил, и как выпил… Он мог бы написать эпическую поэму, а он говорит как негр. Заставь его говорить как негра, публика это любит, это напоминает ей «Павла и Виргинию!» – «Я… пьесу?.. Я… комедию!.. работать? Дома невозможно!.. Грязно… ничего не найти… повсюду зубные щетки… работать!.. Слишком грязно!.. – Но если вас поместить в хорошенькой, красиво убранной квартирке? – О!.. Божественно… на мебели нет гребенок… обстановка… очиненные перья… пьесу!.. две пьесы!.. три пьесы!.. Сколько угодно! До завтра!.. – Артистка с улыбкой жмет руку поэта… Поэт точен как часы. Он пробует кресло: в нем можно заснуть, даже не читая!.. Стол, белая бумага, перья, чернила!.. «Если б были сигары, вздыхает поэт, тут было бы все для того, чтобы писать!» Селимена посылает за двумя ящиками сигар. Наступает час завтрака. «Ах, – говорит поэт, – я должен покинуть вас… я буду завтракать с приятелями… мы заболтаемся… невозможно… день пропадет!» – «Поставьте два прибора», приказывает Селимена прислуге и затем обращается к поэту: вы будете завтракать здесь, неправда ли? Что вы любите? – «Все, кроме жареной курицы и бордоского вина». Вечером новые жалобы поэта: «послушайте, если я уйду к себе, я приду только завтра, после завтра только встану… и…» – «Хотите я велю вам сделать постель в гостиной?» – «Нет я боюсь ночью один, а вы?..»
Одним словом, к концу недели пьеса готова. Она переписана.
– Ах, – вдруг восклицает поэт, – дайте мне ленту, Бога ради, мне надо одну из ваших лент! Вот хоть эту! У меня такая привычка – связывать мои рукописи шелковой ленточкой… это глупо, но что делать!
Селимена дает ленту, делает бант и поэт несет свою пьесу… другой Селимене из Théâtre Franèais!
Теперь можешь назвать это: Повесничанье мужчин – и дело в шляпе!
Все это говорилось в комнате, оклеенной голубоватыми, пожелтевшими от дыма сигар, обоями. На стенах не было никаких украшений, кроме вешалки с хрустальными розетками для шляп и огромной литографии, приклеенной четырьмя облатками: она изображала процессию фигур с огромными головами, направлявшихся к Пантеону, где Надар раздавал живым награды Потомства. Все украшение камина состояло из трех свертков папиросной бумаги. Большой стол, покрытый зеленым сукном, стоял посреди комнаты. Восемь стульев вокруг и диван в углу – одни напоминали о благосостоянии дома своим красноречивым видом новой мебели красного дерева, с красной шелковой обивкой.
II
В этой комнате, которая была конторой редакции газеты «Скандал», сидело пять человек.
У одного были белокурые волосы, небольшой лоб, черные брови и глаза, небольшой нос прямой и мясистый, завитые белокурые усы, маленький рот, чувственные губы и пухлое лицо, обличавшее в молодом человеке наклонность к полноте.
Другой был молодой человек лет тридцати четырех, маленький, коренастый, с плечами Венсенского охотника, с налитыми кровью глазами, рыжей бородою и передергивающимся лицом, напоминавший горбуна. Он имел вид хищника мелкой породы.
Женские волосы, женский рот, вздернутый нос, мальчишеский взгляд, паяснические жесты, довольство жизнью – все это самому молодому придавало вид херувима и школьника на каникулах.
Несколько седых прядей, зачесанных с затылка волос, скрывали желтый череп самого старого. Глаза его были бесцветны и бездушны: они не глядели; а немое лицо его скрывалось за реденькой желтоватой бородой.
Пятый ничем не выделялся. Он был недурен собой, красив как всякий причесанный, завитой, вылощенный и вычищенный, как всякий, носящий бородку и лорнет.
Первый, небрежно одетый, с расстегнутым жилетом, подписывал статью, каллиграфически переписанную; его звали Молланде.
Второго, всецело погруженного в стуканье по стене большой линейкой, звали Нашет.
Третий, торжественно из бумаги делавший петушка, назывался Кутюра.
Четвертого, разрезавшего спичкой новый том, звали Мальграс.
Пятый – Бурниш; опершись на камин, он смахивал мизинцем левой руки белый пепел сигары.
Молланде, Нашет, Кутюра, Мальграс и Бурниш составляли редакцию «Скандала». Они были его постоянные сотрудники, его официальная опора, столпы, которые поддерживались еженедельно партизанами, составителями книг без работы, водевилистами без сотрудничества, всей этой летучей армией малой прессы.
Эти пять человек, прислушивавшиеся к бронзовому зеву Парижа, жившие за кулисами всех общественных ступеней и в кухне всяких реклам, знавших, что причиняет рану мужчине или седой волос женщине, эти пять человек работали в «Скандале» не только для того, чтобы доставить удовольствие себе и другим. Ни один не был тем добродушным скептиком, изображенным на виньетке маленькой газетки, которая заставляет плясать под звуки тамбурина важных фигляров и почтенных шутов. Они преследовали в своей газетке другую цель, кроме денег: карьеру, различные мечты и вожделения своего тщеславия, самолюбий и темпераментов. Каждый из них скрывал в себе человека и цель.
Молланде, хитроумный, ядовитый, себе на уме и деликатный, не заносившийся высоко, но чуткий, с порывами, когда представлялась в том надобность, зубастый, восхитительный пародист, великий человек по части шутовской критики и цинической эстетики; этот Молланде, родившийся в Париже под статуей Паскена, со склонностью к иронии и гением мелких статей, начитанный, почти ученый, с огромной памятью, мечтал бросить эту жизнь изо дня в день, это гаерство мысли, которое так быстро изнашивает самых сильных и молодых. В глубине души этот литературный зубоскал был буржуа, жаждавший почета, положения и мещанского счастья. Он желал быть семьянином и вкушать от плодов собственности. Он добивался покоя, тунеядства, мирной обеспеченности лавочника, составившего себе состояние и удалившегося от дел.
Вся его чувственность заранее расцветала при мысли о любви под шумок, о вкусных домашних блюдах, о блаженном и законном удовлетворении своих инстинктов. Он мечтал о том дне, когда, сняв с себя платье, закапанное чернилами, он приобретет дом с зелеными ставнями, деревеньку à la Поль-де-Кок, где будет играть роль деревенского судьи!.. Пред ним проносилось будущее во всем его опереточном величии, и он забывал все: настоящую необеспеченную жизнь, учтенные авансы, неверные обеды, отказанный кредит, неоплаченные долги, плохое вино и сомнительные пирожки.
Насколько грезы Молланде были мелки, и стремились к осуществимым идеалам Горация и Жерома Патюро, настолько тщеславие Нашет, погоняемое его 34-мя годами, влекло его к случайностям и опасностям.
Однажды, владелец маленькой виллы в Вогезских горах вошел к своему поверенному, мэтру Нашет, чтобы заплатить ему издержки по одному незначащему процессу. Список издержек показался ему несколько велик.
– Я пришлю его вам по таксе, назначенной председателем суда, – сказал Нашет.
Он прислал и счет был заплачен. По какому-то делу помещик был отозван в Эпиналь и, говоря с председателем суда, близким его семейству, вспомнил:
– Однако вы меня пощипали прошлую неделю!
– По какому делу? – спросил председатель.
– Робино и Вердюро.
– У нас не было этого дела.
– Но, господин председатель, у меня есть ваша подпись! Мне ее представил Нашет, мой поверенный.
– Нашет? Вот уже месяц как я не оценивал ни одного его дела… Пришлите мне пожалуйста ваш список издержек.
По получении списка председатель Дюпере попросил Нашет в свой кабинет.
– Милостивый государь, – сказал он, показывая ему счет, – вы знаете, куда это ведет?.. Я не пошлю вас туда; но вы дадите мне слово, что продадите вашу контору в шесть недель.
Нашет поклонился, вышел и не думал продавать. К концу шести недель Дюпере напомнил ему об его обещании, Нашет стал ему говорить о ликвидации дел, о вознаграждении клиентов и кончил тем, что стал просить отсрочки еще на шесть недель. Дюпере дал ему отсрочку. По выходе из суда, Нашета видели на прогулке с Ганьером, первым клерком адвоката Ланглуа; это был человек работавший как лошадь, какие до сих пор попадаются в провинциальных конторах, без гроша в кармане, отчаявшийся когда-либо приобрести нотариальную контору, и осужденный оставаться первым клерком на вечные времена. По истечении шести недель, Дюпере, видя, что Нашет не продает, начал ему угрожать; Нашет отвечал, что он не продаст, так как председатель не имеет доказательств, и на этом раскланялся. Дюпере позвонил, велел принести из канцелярии дело Нашета, но его не оказалось; Дюпере возбудил преследование, но его пришлось прекратить за неимением улик. Нашет сохранил свою контору. Несколько времени спустя Ганьер купил контору своего патрона. Весь Эпиналь говорил по секрету, что Ганьер получил 30.000 франков от Нашета за уничтожение знаменитого списка издержек.
Несколько месяцев спустя толки в обществе, шум, вызванный этим делом и разорение его опустевшей конторы, заставили Нашета удалиться из этой местности. Он исчез, бросив свою жену, дочь толстого соседнего фермера, беременной; все её богатство заключалось в маленьком домике с 1.200 франков аренды, который он не успел продать.
Но скандалом процесса и побегом мужа дело не ограничилось, к удовольствию злых языков провинциального городка; все смеялись над забавными выходками этой крестьянки, воображавшей себя дамой, которая принимала визиты после родов, лежа, в шляпке из Парижа! Сын адвоката Нашета, едва ставши мужчиной, с первым пушком молодости, кое-как дотянув до конца ученье в коллеже Нёшато, бежал из родного города, где над ним тяготело прошлое его отца, преследуемый, как он думал, ненавистью магистратуры, где ему мешали его имя и его мать! Оскорбленный, уязвленный с детства, преследуемый злопамятством и вечными насмешками над после родовой шляпкой его матери, что более всего приводило его в бешенство, он бежал в Париж, унося в себе месть Кориолана.
В Париже он отыскал Ганьера. Ганьер, участвовавший в какой-то ростовщической афере, расстроенный правосудием, угрожаемый крестьянами, которых он разорил и, наконец, невыгодно продавший свое дело, открыл на набережной Grands-Augustins книжную лавчонку, куда вложил последние шесть или семь тысяч франков, спасенных от разорения. Нашет поступил в Ганьеру приказчиком на 25 франков в месяц с квартирой и столом. Приходя с улицы Guéri il-Boisseau, он отдыхал и жадно проглатывал библиотеку своего патрона, пичкая себя безнравственными романами и порнографическими книжками, которые тайком продавал Ганьер.
Он жил один, угрюмый, хмурый, забившись в своем углу и пугаясь самого себя, когда он чувствовал несоразмерность своих желаний и сил, и спасаясь, как он называл, от искушения, от жажды роскоши, колясок, женщин, словом, всего, что составляет парижскую жизнь. Наконец, однажды, он окунулся во все удовольствия и стал проводить в них каждую ночь. Он принялся за ремесло танцора в Шато-Руж и Валентино, танцуя с восьми до одиннадцати часов вечера за порцию говядины и литр вина. Случайно он встретился со своим земляком молодым рисовальщиком Жиру. Жиру повел его в свою мастерскую, посмеялся над ним и над его лавкой, посвятил его в свое ремесло и, пораженный его остроумием, уговорил писать. Жиру поставлял иллюстрации одному крупному издателю. Представленный Жиру, Нашет получил от издателя поручение составить несколько реклам. Рекламы Нашета «подошли» издателю, и он поставил его во главе обширной отрасли своего учреждения реклам, объявлений в журналах, всего, что делает успех. Монеты в двадцать, двадцать пять и даже в сто франков начали сыпаться в карман бывшего приказчика книжной лавочки. Нашет, по своему ремеслу шефа клаки, поставленный в соприкосновение с людьми и их самолюбиями, которых он был обязан рекомендовать публике долго пописывал в разных маленьких мертворожденных листках, потом втерся в «Скандал», где целый ряд его статеек, едких и остроумных, заставил тотчас же оценить его.
Живой, нервный, самоуверенный ум этого молодца быстро освоился с этой шумной жизнью, с этим звяканьем особого жаргона, с этим миром, где всякое вранье со свободой кокотки и с видом благодушного распутства прогуливается от одного в другому на крыльях насмешки, уподобляясь ласкам того хищного животного, которое лижется до крови. Раз набив руку, увлекаемый своей натурой, Нашет дошел до крайностей, развернулся в шутках и задевал всех и каждого, как бы желая испробовать всю глубину его чувствительности и терпения, узнать сильного и оседлать слабейшего. Из-под этой грубости вранья устного или письменного пробивались порывы и выходки характера неспокойного, недовольного, грусть, тысячи задеваний щепетильности и капризы, требования и прихоти куртизанки. Раздражавшийся малейшим препятствием, выходивший из себя от самых обыденных житейских неудач, приходивший в ярость на трактирных гарсонов, на людей, на извозчичьих лошадей, грозивший кулаком небу и земле, Богу и своему портье, Нашет был одним из тех несчастных, которые жадно бросаются на все, не находя ни в чем удовлетворения. Перед каждой мечтой, которой он достигал, на каждой ступени, на которую поднималось его честолюбие, он останавливался только для того, чтобы пожалеть о своих усилиях, унизить и затоптать свою победу, как поступают дети, которые секут свою игрушку за то, что, распотрошив ее, они не нашли в ней ничего. Склонный к разочарованию, как все порывистые беспорядочные, непоследовательные натуры, Нашет не умел создать серьезного произведения, которое требует от писателя строгости и веры в себя, постоянства религии и надежд. Опьяненный своими дебютами в «Скандале», Нашет отдал зараз все свои эффекты, все свои силы.
Опустошив до конца классические этюды, эту обетованную землю, где все Антеи современного фельетона черпают свои силы и воображение, Нашет начал грызть ногти перед листом белой бумаги. Он посещал кафе, кабачки, пивные, подозрительные места парижского дебоша, раздражая, подзадоривая свой мозг, стараясь разогреть свое вдохновение гамом слов, парадоксами, всяческими насилиями иронии.
Все говорило в этом человеке о неутолимой и яростной жажде шумных, гордых, выставленных на показ наслаждений, как те амуры, торчащие на окне какого-нибудь ресторана на Итальянском бульваре, тех наслаждений тщеславием и авансценой, для которых поверенным является общественное любопытство, трубой хроника, честолюбием унижение партера. Нашет жадно бросался на эти удовольствия и вызывающе обращался к своему родному городку, посылая отдаленным отголоскам насмешки прошлого то любезное письмо знаменитого критика, то приглашение на бал к банкиру, то свою остроту, иллюстрированную знаменитым карикатуристом и напечатанную в каком-нибудь журнале. И когда парижане, читая свою газету в своих постелях, спрашивали себя, чего это так сердится маленький Père Duchène, Нашет в мечтах видел свою знаменитую особу входящим в подпрефектуру; его встречали поклонами, он не кланялся никому; он обедал у подпрефекта; вечером на бале у г-жи Гранпре, – он бывал на балах у г-жи Гранпре! – он ни на кого не обращал внимания и сухо отвечал г-же Гранпре:
– Я не танцую.
А когда мадемуазель Гранпре поэтически описывала ему месяц май, он отвечал, поправляя галстук:
– Май месяц? Я обожаю его, сударыня, в Париже: вечером становится так светло, что можно различить личики гризеток, выходящих из магазинов…
Кутюра, ребенок, школьник, пустозвон, делатель мыльных пузырей, вытаскивавший стулья из-под людей, этот Кутюра, с виду такой взбалмошный, невинный, чуждавшийся всяких задних мыслей, обладал железной волей, холодной, глухой, страшной, как тот парламент, который желает сделаться третьим сословием, или как та секта, которая желает быть религией. Наблюдательность была его самой выдающейся чертой; благодаря ей он с детства видел все сквозь наружную оболочку. Он с любопытством относился ко всему, что человек в общежитии скрывает, и открывал у каждого, с верностью второго зрения, его тайну, недостаток, дурные инстинкты, дурной поступок, употребляя свои открытия, чтобы войти в доверие, и пользуясь вынужденными признаниями, чтобы держать людей в руках, стараясь, впрочем, никогда не доводить дело до крайностей. Часто, болтая с женщинами, он умел их заставить говорить и находил в них самую лучшую полицию, тем более, что они этого и не подозревали. Отлично владеющий собой, умеющий заглушать свои симпатии и антипатии, подавлять свои порывы, равнодушный к людям, как к пешкам, ловкий в эксплуатировании каждого в свою пользу, в чаду литературной полемики готовый всегда пожертвовать местью для мирного договора, добрым словом для друга, и своим тщеславием для своего будущего, Кутюра имел мало друзей; но он сумел их сделать вполне преданными, помогая им, смотря по надобности, своим пером, своей сметливостью и шпагой.
Обладая в совершенстве опытностью малой прессы, её тактом и изворотливостью, наукой оттенков в значении слов, умея сделать из рекламы сатиру, и так похвалить нападая, что автор был польщен такими нападками, он имел достаточно хладнокровия, чтобы дать отраву и ранить до крови только людей, стоявших ему поперек дороги. Всегда прикрываясь шаржем, обезоруживая зависть, Кутюра, казалось, придавал своим произведениям цену импровизированной насмешки, предоставляя новичкам усердствовать и увлекать, сам умел остановиться в разгаре полного успеха, с редкой способностью управляя своим талантом и вдохновением; всего остроумнее он бывал в плохих номерах летом, когда воды и морские купанья делают Париж таким пустым, и маленькие листки такими скучными.
Этот человек с тайной радостью и смеясь про себя, умел прятать свое лицо и надевать маску и так тонко лицемерить, что другие считали его ни во-что; он любил втравливать Нашета в удовольствия и утомлять его в оргиях, где разыгрывался его темперамент, и откуда Нашет выходил с тяжелой и пустой головой и сухим горлом, и находить на другой день в газете свою месть, подписанные Нашетом свои удары, свои нескромности, проскользнувшие у него как будто под влиянием вина. Кутюра находил удовольствие считаться как бы эксплуатируемым Нашетом, тогда как он им вертел по своей воле и прикрывался им в тех случаях, когда не хотел выставлять своего имени.
Посредством женщин, которых он ласкал, играя в серьезную с одними, забавляя других, умея приобрести себе повсюду приятелей, он проник в мир лореток; вращаясь в их кругу, он сблизился с банкирами, с богатыми иностранцами, знал все их отношения, находился в сердце этой Капуи, где только миллионер – человек, где золото опьяняет, делает авантюристов и заставляет поддаваться случайностям.
Кутюра спасался от некоторого неуважения, какое дает привычка к этому миру, посещением другого мира, честной буржуазии, куда ему также удалось втереться, и где он играл роль салонного кавалера.
Этот молодой человек одним прыжком втирался в вашу интимность; на завтра он уже был с вами на «ты», и все это с таким увлечением, так мило и так непоследовательно, что вы относились к нему снисходительно. Задевал ли он вас? Он забегал вперед, смеялся над собой и афишировал вашу дружбу. Неутомимый, вертевшийся тут и там, он заводил новые знакомства, разжигал рекламу, не брезгал ничем, пользовался всевозможными средствами, бывал на раутах и на всех балах в Chaussée d'Antin, встречал зиму, встречал лето, показывался даже там, где надо прятаться, всегда тут как тут, на проходе других, которые его окликали, узнавали, кланялись ему и указывали на него, Кутюра разрешил невозможную проблему быть европейским человеком в Париже.
Все эти способности, все эти происки Кутюра клонились в одному: он мечтал завести большую газету.
Большая газета, воображаемая Кутюра, была последним словом, высшим развитием маленькой газеты. Увеличив её формат, учетверив рекламы, сделав ежедневной и вечерней газетой, помещая на первой странице беспристрастное резюме политических новостей и краткий обзор утренних газет, а на последней, – подробный биржевой курс, осведомленный и сообщающий о всем, Кутюра избавлял свою большую-маленькую газету от различных ученых, земледельческих, полемических, экономических статей, и наполнял ее парижскими известиями полнее, пикантнее, остроумнее и новее, чем все настоящие и прошлые вестники; затем, предполагались политические известия из Лондона и из всех столиц, чередующиеся с новостями светскими, клубными, из мастерских художников, театральными, биографическими, психологическими, словом, собранием известий почти со всех частей света.
Эту газету, рассчитанную на обширную публику, на всю ту публику, которая в газетах оставляет без внимания серьезные статьи или читает их, чтоб чем-нибудь наверстать свои подписные деньги, по прошествии нескольких лет, когда она сделалась бы важной газетой эпохи, Кутюра намеревался предложить правительству.
Если бы власть досталась какой-нибудь революции, Кутюра сорвал бы маску, придал бы газете определенный колорит и с помощью её занял бы какое-нибудь высокое политическое или финансовое положение. В продолжение двух лет Кутюра работал как крот. Деньги и лица, дающие деньги на предприятие, были готовы, несколько писателей, необходимых для газеты – испытаны. Он завел корреспонденцию со всей Европой. Английские лорды обещали ему сообщать политические тайны. Он напоил до пьяна трех немецких дипломатов, которые не побрезговали злословить по-французски. Актрисы, приглашенные в Петербург, должны были выведать для него все о России. Великолепные итальянские сеньоры обязались поставлять ему статьи об итальянском обществе и театрах. И все это гнездилось в этом человеке под видом шутки, каламбура, фарса, паясничества, гаерства и ребячества.
Мальграс, дядя Мальграс, как его звали, бил человек лет сорока пяти, только и говоривший что о своей жене, его единственной любви, умершей очень молодой, и о детях, оставленных ею, его единственных друзьях. Он болтал о святости домашнего очага, о родительских обязанностях, о фамильной чести, о счастье воспитывать этих маленьких созданий в уважении и любви к виновнику их существования, развивая их добрые инстинкты и первые проблески совести. Его медоточивое и слащавое красноречие походило на речь Робеспьера пропущенную через святую воду. На его языке постоянно вертелись слова: долг человека, социальные обязанности, теория самопожертвования, нравственное достоинство, – и все это холодным тоном, медленно и плавно, голосом ровным и без тембра, который, казалось, исходил из деревянного нёба. Когда мораль дяди Мальграса спускалась с неба на землю, он оплакивал легкость нравов, и суетность жизни своих компаньонов по газете. Мальграс прямо говорил о вещах, называя порок своим именем, и доходя до цинизма отцов церкви, но всегда ровным голосом, не сердясь и не волнуясь. В его сладких манерах и приторной вежливости проглядывало презрение квакера, попавшего в шайку хвастунов. Довольный судьбой, счастливый в своей посредственности, строгий к себе и другим, он иногда смеялся при рассказах о различных несчастиях; это был странный смех, внутренний, нервный, бесшумный, который вместе с однообразным и точно мертвым голосом наводил почти ужас.