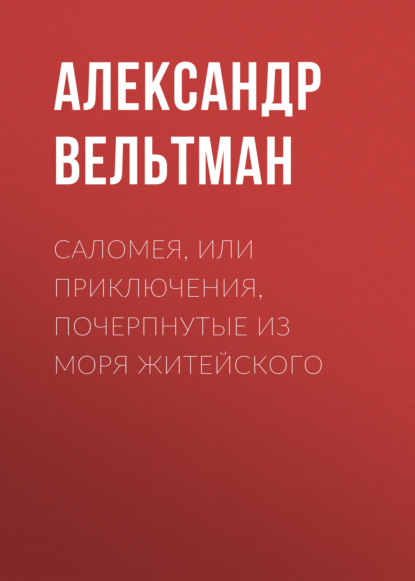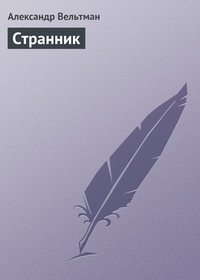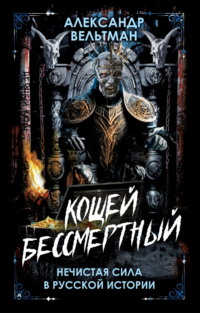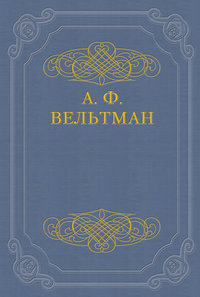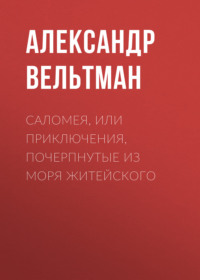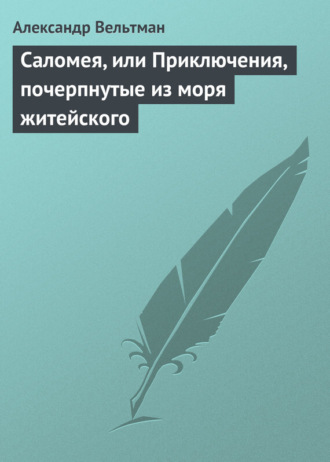 полная версия
полная версияСаломея, или Приключения, почерпнутые из моря житейского
А гости и гостьи чинно сидят и, по обычаю, отнекиваются от избытка угощений, уверяют, что уж душа не принимает, и все-таки кушают в угождение хозяину и хозяйке. Сроду в доме у Марьи Ивановны не было ни плясок, ни музыки; но когда выросла дочка да вышла ученой-преученой из пансиона, тогда и Селифонт Михеич и Марья Ивановна вздохнули; но один вздохнул о старом порядке вещей, а Марья Ивановна уже по новом; ей, по-старому влиянию просвещения на женщин, моченьки нет как хотелось сделать бал; но Селифонт Михеич решительно сказал, что он даст бал только на свадьбу дочери. Вследствие этого (что делать!) Марье Ивановне ужасть как захотелось скорее просватать Дунечку; но что она ни предпринимала, ничто не клеилось: Дунечка непременно требовала генерала. Когда Матвевна объяснила, что у ней есть графчик, тогда и у Дунечки и у Марьи Ивановны сердце пришло на место. За согласием Селифонта Михеича дело не стало; он не знал, что Прохор Васильевич – графчик, был радехонек, что отдаст дочь за купецкого сына, да еще и за такого же миллионщика, как сам. Вот и настал день ожидания жениха «на чашку чаю». Бог весть, что сделалось с Марьей Ивановной! она заметалась во все углы, как барыня. И кондитера-то ей подавай, и без повара-то нельзя обойтись; и лакеев-то для прислуги надо нанять, и жирандоли-то взять напрокат, – не подсвечники же поставить на стол; и сальные-то свечи – страм какой! и в комнатах-то курить не смолкой же.
– Владыко ты мой, господи! – воскликнул Селифонт Михеич, посматривая на жену; но он не привык с ней ссориться и только терпеливо читал молитвы от наваждений бесовских. Однако же, когда Марья Ивановна вместо повязки гарнитурового с золотой бахромой платка примеряла перед зеркалом купленный при помощи кумушки на Кузнецком мосту чепчик, Селифонт Михеич плюнул и хотел идти вон.
– Селифонт Михеич, посмотри-ко-сь! – крикнула к нему Марья Ивановна.
– Что тебе, матушка!.. – произнес он, остановись, сердито.
– Посмотри-ко, душа, каково?
– Ну что ж тут есть хорошего-то: чепешница!
– Где ж тебе толк знать; а я тебе вот что скажу, Селифонт Михеич: куда как непригодно ходить тебе в долгополом-то чекмене; ты бы послушал меня, надел немецкий сертук.
– Тьфу ты пропасть! Ну, уж я вижу, что ты пошла на старости лет в сук расти! – сказал Селифонт Михеич, махнув рукою и уходя.
– Вот мужья! изволь на них угодить!.. – проговорила Ирина Степановна, без которой никогда бы не пришло в голову Марье Ивановне изменять обычный свой порядок и носить чепцы.
– Да бог его знает, что он окрысился так, – сказала Марья Ивановна, – этого с ним сроду не случалось: бывало, и причуда какая-нибудь придет мне в голову – и то ничего; а теперь поди-ко-сь, как расходился!
– И! уж все таковы, кумушка; только до поры до времени. Ваш еще что, поворчал, да и ушел; а посмотрели бы вы, мой, бывало, как браниться начнет; да я в глаза-то не смотрела, на первых порах осадила.
– Что ж ты, вцепилась в него, что ли, Ирина Степановна?
– Вот, дура я на медведя лезть! Нет, кумушка, есть на все манера благородная.
– Да какая же манера, Ирина Степановна? уж когда пошло на спорное дело, так слово за слово, да и за святые власы.
– И, господи, полноте, кумушка, известное дело – в ком сила, в том и воля: оттаскал, да и поставил на своем; и в другой раз так и в третий; небойсь ждать, покуда умаится? покорно благодарю! Как высушит в лучину да переломает бока, так уж тогда к ляду и воля! Нет, кумушка, я не допущу сказать себе одного слова неприятного; не могу! со мной тотчас дурнота: так и покачусь без памяти.
– Дурнота? поди-ко-сь! – прервала Марья Ивановна с невольным сердцем, – попала, верно, твоя дурнота на дурака, кумушка!..
– Извините, кумушка, мой муж не дурак!.. – возразила с обидой Ирина Степановна.
– Ну, дурак не дурак, а родом так: поверил бы разумный человек дурноте твоей!
– Поневоле поверит, как ляжешь в постелю мертвым пластом!
– Экое горе! ляжешь в постелю! Ты ляг, а тебя еще и привяжут: лежи, сударыня моя, сколько душе угодно! Посмотрела бы я, долго ли бы ты пролежала без памяти! Чай, тотчас бы: «Батюшка, помилуй! государь ты мой, помилуй! не буду французскую дурноту в голову забирать!..»
– Чтоб я стала просить прощенья за то, что меня же обидели? Чтоб я покорилась? Ни за что, ни за что, вот ни за что!
Ирина Степановна, в сердцах и обиде, расходилась по комнате, распетушилась. Дунечка также вспыхнула, как обиженная, и выразила нижней губой презрение к словам матери: понятия крестной матери были ей и по голове и по сердцу и вполне согласовались с приобретенными в пансионе, где она не раз слыхала глубокие рассуждения подруг о замужестве, о глупых мужьях, о злых мужьях, о распрях, о бранях и побоищах. Только что упомянула Марья Ивановна о святых власах, у Дунечки зазвучало в ушах затверженное наставление, как поступать с глупыми и злыми мужьями.
– Скажи пожалуйста, какая ты храбрая!.. – продолжала Марья Ивановна с насмешливой улыбкой.
– Да, храбрая! Я не позволю, чтоб со мной неблагородно обходились!
– И, матушка, где ж всем набраться благородства-то; да и сама ты худо сделала, что вышла не за благородного…
– Прощай, Дунечка!.. – сказала затронутая Ирина Степановна.
– Рассердилась? не на век ли? Если не на век, так и не уходя можно было бы помолчать, покуда уляжется сердце.
Ирина Степановна, не поклонясь куме, ушла; Дунечка надулась на мать, а Марья Ивановна, вздохнув и промолвив «о-хо-хо!», задумалась и, не зная, кого обвинить в ссоре ее с мужем и с Ириной Степановной, напала на чепчик.
– Черт, верно, сидит в нем, прости господи! – крикнула она вдруг, сдернув чепчик с головы и бросив на стол. – Ни за что не надену эту проклятую нахлобучку! В самом деле, пришло же в голову на старости лет в чепцы рядиться! Благодарить бы бога и за то, что дочь будет госпожой ходить! Возьми-ко, прибери себе, Дунечка, чепчик; выйдешь замуж, так наденешь его.
– Покорно благодарю! Очень нужен мне старушечий чепчик! – отвечала Дунечка, не двигаясь с места.
– Ах ты паскудная! брезгает матерью! Да ты знаешь ли, что я по сю пору берегу матушкину одежу? по праздникам только и надеваю. А?
– Еще бы из лубка пошили, да и мне бы приказали носить!
– Ах ты недобрая! Так вот чему учили вас в пансионах-то! Так-то вы по-французскому уважаете родителей?
Эти упреки нисколько не трогали сердца Дунечки, она с пренебрежением слушала их и ворчала про себя: да, так, уж конечно по-французскому, а не по-русскому!..
Марья Ивановна не умела выходить из себя, нисколько не была злопамятна, и потому все эти маленькие междоусобия кончились заботою о приеме жениха и долгими прениями Марьи Ивановны с кондитером. Марья Ивановна хотела все угощения, по обычаю, поставить на стол, разливать чай сама; а кондитер говорил, что это не годится, не следует.
– А почему ж, мой батюшко, не следует?
– Как почему ж, уж это известное дело-с, – отвечал он ей.
– Да что же тут известного-то?
– Да как же, сударыня: ведь уж известно, как гости пожалуют, так следует разносить чай; а потом часок спустя фрукты да конфеты, так оно так точно и будет.
– Да отчего ж не убирать стол?
– Я уж вам докладывал, что поставить все на стол-то, сударыня, не годится. Известное дело гости: ставим мы буфеты на балах; не наготовишься ничего: иная старая ведьма десять раз подойдет; платья-то теперь широкие, с карманами; полпуда уберет – в складках-то и невдогад никому; ей-ей! годовой запас привезет домой!.. Да, по мне, как угодно; мне еще выгоднее: вместо пяти фунтов конфет потребуется пять пудов; да еще и не пять: известное дело, что это выдумали французские кондитеры; им чего жалеть чужого кармана; а нам, сударыня, не приходится так делать.
– Ну, ну, будь по-твоему!
– Да как же, сударыня, не по-моему: известное дело, что на все нужен порядок: сперва чай подадим, а потом, часок спустя, десерт; так оно так точно и будет.
– Ну, ладно, ладно! – отвечала Марья Ивановна и от кондитера бросилась на кухню. Там-то она подивилась заморскому поваренному искусству.
– Это что, мой батюшко?
– Труфели.
– Что ж это, неужели едят эту дрянь?
– А как же, сударыня.
– Ну, привел бог видеть; а в рот не возьму!
Таким образом новые, чужие вкусы водворились между старыми своими, понемножку, как ложка дегтю на бочку меду.
Для приезда Василья Игнатьича с сыном весь дом нараспашку. Ворота отворены, у ворот караулит гостей дворник; на крыльце фонарь зеркальный в виде звезды, в тысячу огней. Два сынка Селифонта Михеича сбежали с лестницы навстречу гостям и, указывая руками ступени вверх, повторяли: «Пожалуйте!» В передней ожидал сам хозяин, в зале – хозяйка, в гостиной – дочь, из-за дверей спальни высунулась Матвевна и шепотом окураживала Дунечку:
– Не робей, сударыня; смелее с ним, да по-французскому, по-французскому с ним.
За Матвевной стояла толпа баб и девок.
– Здравия желаем, Селифонт Михеич! – возгласил Василий Игнатьич, входя в переднюю. – Вот вам гость, каков есть: дрянь, сударь, дрянь, не хвалить же стать свое дерьмо! Прошу любить и жаловать! Кланяйся, Прохор!
– Очень рад, батюшка Прохор Васильевич, что изволили пожаловать к нам!.. Покорнейше просим!
– Здравствуйте, матушка Марья Ивановна! – продолжал Василий Игнатьич, вступая в залу. Вот, сударыня моя, не один к вам приехал, а с помощию божией сынишку привез в благорасположение ваше.
– Благодарю покорно, Василий Игнатьич! наслышались много.
– Позвольте изъявить мое почтение-с, – сказал наш мнимый Прохор Васильевич, подходя к ручке Марьи Ивановны и кланяясь, закинув голову назад.
Марье Ивановне по сердцу было такое учтивство.
– Молодчик какой вырос сынок ваш, Василий Игнатьич, – сказала она, – покорно просим! пожалуйте! Рекомендуем вот дочку нашу!
– Авдотья Селифонтьевна! – продолжал Василий Игнатьич, – ну, благодать божия родителю и родительнице такой дочки.
Дмитрицкий ловко шаркнул и поклонился своей будущей, остановив на ней томный, как будто умирающий взор, пораженный ее красотою.
– Просим садиться! сделайте милость!
– Так вот так-то, батюшка Селифонт Михеич! – сказал Василий Игнатьич, садясь на указанное хозяйкой почетное место. – Благословен бог в начинаниях!
– Так-с, Василий Игнатьич, – отвечал Селифонт Михеич, – Действительно так-с.
Василий Игнатьич хотел было продолжать свое начинание, но дверь распахнулась, и мальчик кондитера, малый лет двадцати, разряженный как парижский франт, явился в гостиной с огромным подносом. Мосьё, да и только! за него совестно, что прислуживает. Прическа головы модная, запоздалая только го-Дом; галстук, манишка, жилет, фрак и так далее, белые перчатки, все это во вкусе времени, щеголевато, как на современном jeune premier[138]; даже сладкая мина, говорящая: не угодно ли вам чаю? была похожа на театральную мину предложения услуг и сердца.
«Что ж ты, братец Прохор Васильич, уселся, да и молчишь дураком? Поговори с будущим тестюшкой», – сказал сам себе Дмитрицкий и пересел к хозяину.
– Какой прекрасный, приютный дом у вашей милости, Селифонт Михеич.
– И, помилуйте, что ж это за дом, это домишко, сударь; вот у вашего батюшки так дом – палаты; барской, убранство господское!
Дмитрицкий тотчас смекнул по ответу Селифонта Михеича, что неуместной похвалой задел его за живое. Селифонт Михеич не жаловал барства в купеческом быту и про Василья Игнатьича говаривал: «Залетела ворона в высокие хоромы».
– Что ж в этом барстве и убранстве, Селифонт Михеич? По мне, если позволите сказать между нами, не только тятенькин, да и всякий дом господской постройки, просто повапленный сарай; для житья непригоден, ей-богу-с! Под трактир отдать или фабрику завести в нем – так-с; для фабрики очень хорошо-с, и поместительно и все. Я был вот и во Франции и в немецких краях: там теперь никто не живет в палатах; например, вот-с в Пале-ройяле, то есть в королевских палатах, гостиной двор завели; а во всех отелях, то есть господских домах, трактиры; уж если скажешь, что живешь в отеле, так просто значит в трактире.
По сердцу было Селифонту Михеичу это известие.
– Вот, Прохор Васильевич, – сказал он, – радостно как-то и видеть рассудительного человека; и в чужих землях побывает, наберется ума, а не шавели. А вот, сколько детей не только нашего брата, а господских, ездили во французскую землю, да что ж вывезли-то? что переняли-то? Страм сказать.
– Уж и не говорите, Селифонт Михеич! – проговорил со вздохом Дмитрицкий, – насмотрелся я.
– Очень, очень приятно, Прохор Васильевич, что вы в молодости так благорассудительны; очень, очень радуюсь знакомству; прошу только нас полюбить; мы, надо вам сказать, люди простые. Сынки у меня не учились наукам разным; ну, а могу сказать, не обидел бог – надежны.
Селифонт Михеич показал на двух молодцов, стоявших в сторонке, гладких и гладко причесанных, в немецких сюртуках.
– Сделайте одолжение, позвольте познакомиться! – сказал Дмитрицкий и тотчас же подошел к ним, пожал руки и просил благорасположения.
– Вот дочка у нас, благодаря бога, была в науке, тоже как у добрых людей, поофранцузилась немножко; что делать!
– Я слышал, что Авдотья Селифонтовна прекрасно поет, – сказал Дмитрицкий.
– А бог ее знает, училась у мадамы, поет, да не по-русски, так я и толку не разберу. Вот женщины сметливы: Марья Ивановна моя, в зуб толкнуть по-французскому не умеет, а говорит, что понимает все, что поет Дуняша.
– Без сомнения, французские романсы и итальянские арии: ах, как это хорошо!
– Вот вам известно это; так после чаю мы ее и спеть заставим.
В самом деле, после чаю Селифонт Михеич сказал что-то на ухо Марье Ивановне, а Марья Ивановна дочке своей.
– Не могу я, маменька, с первого разу, нет! – отвечала Дунечка матери также шепотом.
Долго продолжались переговоры, наконец она встала с места и произнесла жеманно вслух:
– Сегодня, маменька, у меня совсем голосу нет.
– L'appctit vient en mangeant et la voix vient en chantant, mademoiselle[139], – сказал Дмитрицкий, обращаясь к своей невесте.
– Вуй! – проговорила она, не поднимая глаз на своего жениха, и пошла к фортепианам.
– Извольте послушать, Прохор Васильевич, – так ли она поет, – сказал Селифонт Михеич.
– Послушаем, послушаем, – возгласил и Василий Игнатьич, – садясь по приглашению хозяйки на стул, – у меня точно такой же струмент стоит в зале, да играть-то некому; нет, мой не такой, а углом, и струн-то под ногами побольше, чем у этого. Как бишь, Прохор, называют струмент-то?
– У вас, тятенька, ройяль, а это фортепьяно.
– Фортепьяны, фортепьяны, настоящие фортепьяны, – крикнула Марья Ивановна в то самое время, как Дунечка, разместив очень удачно пальцы по клавишам, хотела было взять аккорд и промахнулась целой октавой.
– Ах, маменька, вы говорите под руку! – проговорила она тихо, но с досадой, начав снова прелюдию к арии.
«Хвали, братец Прохор Васильевич, свою невесту», – сказал Дмитрицкий сам себе и потом крикнул:
– Браво, браво! ах, как хорошо! какой туш!
– Не говори, батюшка, ей под руку, не любит, – шепнула ему Марья Ивановна.
– Право, я не знаю, что петь, – сказала Авдотья Селифонтовна, начав снова ту же прелюдию.
«Господи, какое наслаждение быть Прохором Васильевичем и женихом такой невесты, – тихо проговорил Дмитрицкий, неосторожно зевнув, – надо быть животным, чтобы не чувствовать этого! Ну, как не порадоваться на такое существо? Как не поблагодарить сивилизацию за такие метаморфозы! Узнаешь ли Дунечку-дурочку, перетянута в рюмочку? барышня, да и только! подле фортепьян сидит, итальянскую арию поет – какова? Браво, браво».
– Тс, уж не мешайте, Прохор Васильевич. Слава богу, что начала.
– Не могу, матушка-сударыня, Марья Ивановна, ей-ей не могу! сердце заходило! Это такая сивилизация, что чудо!
– А что, во французской-то земле также, чай, поют?
– Кто ж теперь поет! Там сивилизация; поют только русские песни; а это называется шантэ, мадам! шантэ, шантэ!
– Ой ли?
– Ей-ей!
– Так же, кажется, и Дунечка говорила; вот, как вы, Прохор Васильевич, все знаете, так куда как приятно! да уж помолчим теперь, благо распелась.
– Извольте, помолчимте, матушка-сударыня Мария Ивановна. «Метаморфозы! – продолжал про себя Дмитрицкий, наслаждаясь картиной, которую стоило бы поставить в латунную рамку. – Посмотри, Прохор Васильевич, на тятеньку: вельможа! да и ты сам – кто узнает, что ты не Прохор Васильевич? Ну, была ли бы возможность без сивилизации так ухитриться, заставить дерево расти корнями вверх? Вот жена будет тебе, Прохор Васильевич! Что я говорю, какая же жена! Жена просто значит жена; всякая дрянь может быть женою; а это будет в своем роде Саломея Петровна, несколькими тонами пониже, правда, и весом не так увесиста; но вес может пополниться тягостью; а тону еще наберется: молода и в Саксонии еще не была».
– Что, каково, Прохор Васильевич?
– Чудо, чудо! просто оркестрино! бесподобно!
– Что, брат Прохор, а? – спросил Василий Игнатьич, – жаль только, что хоть вот немножко бы, так, то есть подпустить, как по-нашему: «Я жила-была у матушки дроченое дитя!» Эх, ты!
И Василий Игнатьич прищелкнул пальцем. Приливочка к чаю заговорила в нем.
– В старину-то бывало! а? Селифонт Михеич! Как думаешь! Оно и конечно, почет, нечего сказать, и превосходительные нам, то есть, нипочем… и палаты княжеские, да тьфу! все уж оно не тово… на душе-то как-то, ех-ма!.. Так вот изволите видеть… Марья Ивановна, Селифонт Михеич, пожалуйте-ко сюда!
Василий Игнатьич повел хозяев в гостиную, а наш Прохор Васильевич принялся очаровывать Авдотью Селифонтовну. Сроду не слыхивала она таких сладких речей, которые как газ наполнили пустой шарик, находившийся на ее плечах, вздули его, и Авдотья Селифонтовна, без малейших затруднений, вознеслась под самое небо.
В тот же вечер было решено: быть свадьбе.
Часть восьмая
IТеперь следует слово о настоящем Прохоре Васильевиче. Припомните, мы уже сказали, что он был в науке, очень удачно пошел по следам купеческих сынков, проникнутых насквозь западным ветром, носил фрак, пальто-сак и тому подобные вещи; начал было водиться с знатными людьми, по воксалам и по отелям, где реставрируется Вавилон; но на все это нужна была полная воля и полная доля; а по природе своей Прохор Васильевич, как Телемак, не мог обходиться без Ментора[140]. Привычный ментор его, отцовский приказчик Трифон Исаев, опасаясь заблуждений юноши посреди чужи, наводил его на родное: погулять на славу и посмотреть, как «живут среди полей и лесов дремучих».
Очень естественно, что тятенька Прохора Васильевича, нажив миллион неисповедимым трудом, был скуп, не любил, чтоб сын тратил деньги на пустышь, а на препровождение времени как следует, во всяком случае, и на свой лад и на чужую стать потребны были значительные суммы. Вследствие этого Триша объяснил Прохору Васильевичу, что слишком натягивать счеты в книгах тятенькиных – опасное дело: того и гляди, что лопнут; а что самое лучшее и скорое средство для приобретения капитала – английские машины; тем более что для Прохора Васильевича настало уже время пасть в ноги родителю и сказать:
– Тятенька, дозвольте слово молвить, не рубите неповинную голову! Вот уже третий раз вижу во сне, что вы, тятенька, пожалованы в советники коммерции, и изволите приказывать мне завести филатурную фабрику и ехать самому за море за английскими машинами. Дозвольте ехать, тятенька! Так уж, верно, богу угодно: чью же мне исполнять волю, как не тятенькину!
Василий Игнатьич усмехнулся от умиления; сон Прохорушки был ему по сердцу; потому что нельзя же не верить тому, что три раза во сне приснится, и вот он доверил сыну на первый раз с полсотни тысяч и благословил его в путь за машинами на волшебный остров.
Путь на волшебный остров лежал, по маршруту Триши, через Ростов, куда Прохор Васильевич в сопровождении своего ментора и прибыл в самый разгул ярмарки. Здесь началась его самобытная жизнь; молодецкая душа вдруг созрела, потребовала какой-нибудь питательной страсти и предложила на выбор три пути:
По первому идти – в полон прийти, по второму идти – мертвую чашу испити; а по третьему идти – нищету обрести.
У первого пути стояли всё красные девушки да молодушки, точно писаные: сами песни поют, добрых молодцов зовут: «Ах вы, милые мои, разлюбезные мои, не пригодно вашей братье мимо терема идти, не заглядывати, не захаживати!»
У второго пути всё разгульной народ, всё похмельной народ; кто прищелкивает, кто притопывает, никого не зазывают, никого не манят, а понравится, пожалуй, от товарища не прочь.
А у третьего пути словно княжеский почет: «Да пожалуйте, сударь, к нам в гостиные палаты, не приходится к разгульным да к похмельным вам идти!»
Сами под руки ведут, стопу меду подают. «Уж у нас ли здесь раздолья ваша милость не найдет? Жены честные, разлюбезные, в золотой стопе подносят не кабацкое вино».
Прохор Васильевич несколько стыдлив был от природы и как-то совестился подойти к красным девушкам и молодушкам; Триша зазывал его на второй путь; но купеческому сыну не под стать казалось сообщество приказчика; свой брат купчик как-то более был по сердцу; притом же ему с таким уважением свидетельствовала свое почтение ростовская купеческая знать, что он не в силах был отказаться жаловать на чашку чаю. Здесь ментор его не мог присутствовать даже невидимо, и потому Прохор Васильевич был на полной свободе от его влияний.
Прохор Васильевич знал и в Москве, что такое горка, но не пытал еще счастия в картах. Для горки также необходимо было быть капиталистом, потому что это тот же bank[141], только времен варяжских.
Первая чашка чаю стоила Прохору Васильевичу десять тысяч рублей; он поморщился, но прием, ласки, почтение, угощение Ильи Ивановича и особенно прекрасной его сожительницы так были радушны, любезны, обязательны, что Прохор Васильевич забыл о проигрыше и думал только о знатных людях и о том, чтоб скорее «пожаловать на чашку чаю, а лучше всего откушать хлеба соли», на другой же день.
– Вам, сударь, Прохор Васильевич, надо беспременно поотыграться, – говорили ему, – нам, право, совестно, пренесчастный был день для вас.
Возвратясь домой, Прохор Васильевич ни слова Трифону ни о горке, ни о десяти тысячах; похваливает только доброту хозяина и хозяйки.
– И хозяйка добрая? То-то, смотрите, Прохор Васильевич, да нет ли еще, подобрее и их самих, дочки?
– Нет, никакой дочки нет.
– То-то, знаете, чтоб к хвосту не пришили. Да что ж вы там так долго делали?
– Всё разговаривали.
– Ой ли? Экие словоохотливые! Так только одна хозяйка? Чай, там в карточки играют?
– Э, нет! Так закормили меня, что по сю пору голова болит, и обедать не пойду. Ступай один, гуляй на мой счет.
– Да на свои деньги?
– Вот тебе сторублевая.
– Сторублевая? Ладно. Да, забыл было: Феня просила меня, чтоб подарили ей шелковой материи на платье.
– Возьми на мой счет в лавке у Ивана Савича.
– Нет, в долг не беру: еще припишут, а тут я же отвечай перед вами.
– Так вот еще сторублевая.
Отделавшись от Триши, Прохор Васильевич долго думал: обедать ли идти к Илье Ивановичу, или на чашку чаю? Идти обедать казалось ему как-то совестно: в гостях, за обедом, надо сидеть по-иноземному церемонно, а по-русски чинно, а как посадят подле хозяйки, так уж просто неописанное несчастие.
Около полудня однако ж явился от Ильи Ивановича посланец, чтоб пожаловать беспременно откушать. Нечего было делать, Прохор Васильевич отправился.
Илья Иванович и сожительница его, Лукерья Яковлевна, так приняли гостя, что застенчивость его осталась за порогом. Он чувствовал такую легкость, свободу и удобство, что казалось, будто хозяин и хозяйка сами за него сидели за столом, кушали и говорили: ему оставалось только глотать и сладкие речи и сладкие куски, подготовленные гостеприимными челюстями.
– Почтеннейший Прохор Васильевич, – сказал, между прочим, хозяин, – вчера еще пришло мне в голову: что ж это, вы, сударь, нанимаете квартиру; переехали бы к нам, у нас есть знатные упокой для вас, все угодья. Кушать-то также не приводится по трактирам такому благовоспитанному человеку; уж вы позвольте перевезти вашу поклажу.
– Ей-богу, не могу! – сказал Прохор Васильевич. – Добро бы я один был; со мной тятенька приказчика отпустил.
– Приказчика? Так! Стало быть, это не просто прислужник? Странное дело… нет веры к такому отличному сынку!
– Он только провожает меня, Илья Иванович, – сказал Прохор Васильевич в оправдание своего достоинства.
– Провожает? Было то же и со мной раз: тоже, на ярмарку, как будто по охоте поехал со мной отцовский приказчик; ан вышло дело-то, что для присмотру. Мошенник сам же надувал, а потом, чтоб подделаться к отцу, взвел такие на меня небылицы в лицах, что стыдно сказать!