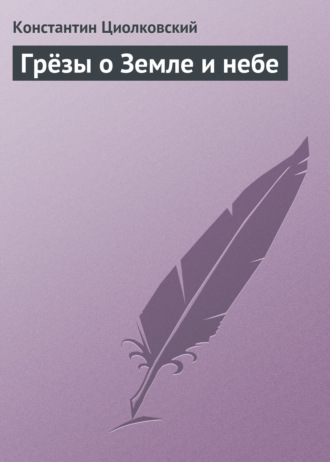 полная версия
полная версияГрёзы о Земле и небе
В беллетристике наибольшее впечатление произвел на меня Тургенев и в особенности «Отцы и дети». На старости и это я потом переоценил и понизил.
В Чертковской библиотеке много читал Араго и другие книги по точным наукам.
Кстати, в Чертковскои библиотеке я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души. Когда усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания. Другой библиотекарь сейчас же сурово будил.
Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров – друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал все свое крохотное жалование беднякам. Теперь я вижу, что он и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось: я чересчур дичился.
Потом я еще узнал, что он был некоторое время учителем в Боровске, где служил много позднее и я. Помню благообразного брюнета, среднего роста, с лысиной, но довольно прилично одетого. Федоров был незаконный сын какого-то вельможи и крепостной. По своей скромности он не хотел печатать свои труды, несмотря на полную к тому возможность и уговоры друзей. Получил образование он в лицее.
Опять в городе Вятке
(от 19 до 21 года, 1876-78 гг.)Вел с отцом переписку, был счастлив своими мечтами и никогда не жаловался. Все же отец видел, что такая жизнь в Москве должна изнурить меня и привести к гибели. Пригласили меня, под благовидным предлогом, опять в Вятку.
Дома обрадовались, только изумились моей черноте. Очень просто – я съел весь свой жир.
В либеральной части общества отец мой пользовался уважением и имел много знакомых. Благодаря этому я получил частный урок. Я имел успех, и меня скоро засыпали этими уроками. Гимназисты распространяли про меня славу, будто я понятно объясняю алгебру. Никогда не торговался и не считал часов. Брал, что давали – от четвертака до рубля за час. Вспоминаю один урок по физике. За него платили щедро – по рублю. Ученик был очень способный. Когда в геометрии дошли до правильных многогранников, я великолепно склеил их все из картона, навязал на одну нитку и с этим крупным ожерельем отправился по городу на урок.
Когда мы к физике дошли до аэростатов, то я склеил из папиросной бумаги аршинный шар и пошел с ним к ученику. Летающий монгольфьер очаровал мальчика.
Только в Вятке я случайно узнал, что я близорук. Сидели мы с младшим братом на берегу реки и смотрели на пароход. Какой пароход – я прочесть не мог, брат же в очках прочел. Взял его очки и тоже прочел. С этих пор я носил очки с вогнутыми стеклами и до сих нор ношу, но читаю всегда и даже сейчас без очков, хотя книгу приходится теперь удалять. Редко прибегаю к большому двояковыпуклому стеклу или лупе.
Случилось, что оглобли очков оказались длинны. Я перевернул очки вверх ногами и так носил их. Все смеялись, но я пренебрегал насмешками. Вот черты моего позитивизма, независимости и пренебрежения к общественному мнению.
Раньше была некоторая хлыщеватость и чем больше назад, тем ее было больше. Там, в Москве, я ходил зимой в пальто старшего брата, перешитом из теткиного бурнуса. Оно было мне велико, и я, чтобы скрыть это, носил его внакидку, несмотря на адский иногда холод. Пальто было из очень прочного драпа, хотя без подкладки и воротника. Но и его я скоро лишился: проходил однажды близ Апраксина рынка. Выскакивают молодцы и почти насильно ведут меня в магазин. Соблазнили: дали предрянное пальто, а мое взяли. Прибавил я еще рублей 10.
Также неудачна была моя покупка сапог на Сухоревке. Лишился старых и пришел домой в новых без подметок.
И в городе Вятке я было принялся за станки особого устройства и разные машины. Даже нанял особую для мастерской квартиру.
Между прочим, устроил нечто вроде водяных лыж, с высоким помостом, сложного устройства веслами и центробежным насосом. Переплыл благополучно речку. Думал получить большую скорость, но сделал грубую ошибку: у лыж была тупая корма, и потому большой скорости не получилось.
Простудился и захворал мой брат, на год моложе меня, с которым я был особенно близок с самого детства. Зимы холодные. У брата пропал аппетит, образовались язвы в кишечнике, и он помер.
Товарищи-гимназисты его провожали. Я же отказался, говоря, что мертвому ничего не нужно. Этот поступок не был результатом холодности: я очень горевал. Потом я уже понял, что провожают мертвых ради родных и друзей.
Из публичной библиотеки… таскал научные книги и журналы. Помню механику Вейсбаха и Брашмана, ньютоновские «Принципы» и другие. Из журналов за все годы перечитал: «Современник», «Дело», «Отечественные записки». Влияние эти журналы на меня имели громадное. Так, читая статьи против табаку, я всю жизнь не курил. К латинской кухне также возникло сомнение. Всю жизнь я болел, но не помню, чтобы лечился. Уже позже я понял великое будущее медицины. Гигиенические статьи производили глубокое впечатление. Отвращение к орфографии всех стран возникло тоже от чтения.
Переселение в Рязань
(от 21 до 22 лет, 1878-79 гг.)Отец стал прихварывать. Смерть его жены, детей, жизненные неудачи много этому способствовали. Отец вышел в отставку с маленькой пенсией, и все мы решили переселиться в Рязань, на родину. Ехали весной на пароходе до самого места…
В Рязани побывал в местах, где прежде жил. Все казалось очень маленьким, жалким, загрязненным. Знакомые – приземистыми и сильно постаревшими. Сады, дворы и дома уже не казались такими интересными, как прежде: обычное разочарование от старых мест. Я еще не был учителем (1878 г.), когда меня притянули к исполнению недавно введенной воинской повинности. Я отрицательно и с негодованием относился к войне, но понимал, что против рожна трудно пойти. Никто не догадался меня проводить в воинское присутствие. Благодаря глухоте получился неизбежный ряд комических сцен.
Раздели догола, кто-то держал рубашку. Грудь не вышла. Заявил о глухоте: «Воздух продувается сквозь барабанные перепонки». Послушал доктор, как шумит в ухе воздух от продувания.
Не помню хорошо, освободили меня сразу или отложили еще на год. Помню только, что губернатор остался недоволен приемной комиссией и захотел всех освобожденных переосвидетельствовать.
Он спросил меня: «Чем занимаетесь?» Мой ответ: «Математикой» – возбудил ироническое пожимание плеч. Все же мою негодность подтвердил. Помню, около этого времени я делал опыты с цыплятами. На центробежной машине я усиливал их вес в 5 раз. Ни малейшего вреда они не получили. Такие же опыты еще раньше в Вятке я производил и с насекомыми. Подвергал и себя экспериментам: по нескольку дней ничего не ел и не пил. Лишение воды мог выдержать только в течение двух дней. По истечении их я на несколько минут потерял зрение.
На следующий год я сдавал экзамен на учителя, так как в Рязани не имел уроков и жил оставшимся скудным запасом денег. В это время я занимал комнату у служащего Палкина. Это был ранее сосланный в Сибирь поляк, теперь освобожденный.
На экзамен я боялся опоздать. Спрашиваю сторожа: «Экзаменуют?» Насмешливый ответ: «Только вас дожидаются».
Первый устный экзамен был по закону божию. Растерялся и не мог выговорить ни одного слова. Увели и посадили в сторонке на диванчик. Через пять минут очухался и отвечал без запинки. Далее со мной уже этой растерянности не было. Главное – глухота меня стесняла. Совестно было отвечать невпопад и переспрашивать – тоже. Письменный экзамен был в комнате директора и в его одноличном присутствии. Через несколько минут я написал сочинение ввернув доказательства совершенно новые. Подаю директору. Его вопрос. «Это черновая?» – «Нет, беловая», – отвечаю.
Хорошо, что попался мыслящий молодой экзаменатор. Он понял меня и поставил хороший балл, ни сделав ни одного замечания. Отметок их я не видел. Знаю только, что меньше 4 получать на экзамене было нельзя. Так сошли и другие экзамены.
Пробный урок давался в перемену, без учеников. Выслушивал один математик.
На устном экзамене один из учителей ковырял в носу. Другой, экзаменующий по русской словесности, все время что-то писал и это не мешало ему выслушивать мои ответы.
Отец был очень доволен. Решили помочь мне в снаряжении на предполагаемое место. На экзамене я был в серой заплатанной блузе. Пальто и прочее – все это было в жалком состоянии, а денег почти не оставалось. Сшили виц-мундир, брюки и жилет, всего на 25 рублей. Кстати сказать, что все сорок лет моего последующего учительства я больше мундира не шил. Кокарды не носил. Ходил в чем придется. Крахмальных воротников не употреблял. Сшили и дешевое пальто за 7 рублей. Пришили к шапке наушники и все было готово. Истраченное я потом возвратил отцу, который за это немного обиделся.
Был у меня еще коротенький полушубок (куплен за 2 рубля). Под холодное пальто без ваты он очень пригодился зимой: тепло и прилично.
Однако несмотря на прошение назначен был на место учителя только месяца через четыре.
Этот промежуток ожидания я проводил в деревне у помещика М. Занимался с его малыми детьми. Учил их грамоте. Мальчик спрашивает: «Зачем ставится в конце слов ер (ъ)?» «Это, – отвечаю, – по глупости». Также я раскритиковал и всю грамматику. Когда ребенок встречал ер, то сначала становился в тупик, а потом замечал: «Знаю, это по глупости».
Педагогия была для меня забавой. Главным же образом я погружался в законы тяготения тел разной формы и изучал разного рода движения, которые вызывали относительную тяжесть. Лет через 30 я послал остатки этих впечатлений и чертежей Перельману. как исторический документ. Он недавно упоминал о нем в своей книге обо мне (1932 г.).
Каждый день я гулял довольно далеко от дома и мечтал об этих своих работах и о дирижабле. Меня предупреждали, что тут много волков, указывали на следы и даже на перья растерзанных кур. Но мне как-то не приходила мысль об опасности, и я продолжал свои прогулки.
В боровском училище
(23–35 лет, 1880-92 гг.)Наконец, после рождества (1880 г.) я получил известие о назначении меня на должность учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное училище. Надел свои наушники, полушубок, пальто, валенки и отправился в путь.
В городе Боровске остановился в номерах. Потом стал искать квартиру. Город был раскольнический. Пускали неохотно щепотников и табашников, хотя я не был ни тем, ни другим.
Дома стояли пустыми, и все же не пускали.
В одном месте нанял огромный пустой бельэтаж. Взял в нем одну комнату и в первую же ночь страшно угорел.
Бельэтаж отдали под свадьбу, меня же переселили в темную каморку, что мне не понравилось. Стал искать другую квартиру. По указанию жителей попал на хлеба к одному вдовцу с дочерью, живущему на окраине города, поблизости реки. Дали две комнаты и стол из супа и каши. Был доволен и жил тут долго. Хозяин – человек прекрасный, но жестоко выпивал.
Часто беседовали за чаем, обедом или ужином с его дочерью. Поражен был ее пониманием евангелия.
Пора было жениться, и я женился на ней без любви, надеясь, что такая жена не будет мною вертеть, будет работать и не помешает мне делать то же. Эта надежда вполне оправдалась.
Венчаться мы ходили за четыре версты, пешком, не наряжались, в церковь никого не пускали. Вернулись – и никто о нашем браке ничего не знал.
До брака и после него я не знал ни одной женщины, кроме жены.
Мне совестно интимничать, но не могу же я лгать. Говорю про дурное и хорошее.
Браку я придавал только практическое значение: уже давно, чуть не с 10 лет, разорвал теоретически со всеми нелепостями вероисповеданий.
В день венчания купил у соседа токарный станок и резал стекла для электрических машин. Все же про свадьбу пронюхали как-то музыканты. Насилу их выпроводили. Напился только венчавший поп. И то угощал его не я, а хозяин.
Я очень увлекался натуральной философией. Доказывал товарищам, что Христос был только добрый и умный человек, иначе он не говорил бы такие вещи: «Понимающий меня может делать то же, что и я, и даже больше». Главное, не его заклинания, лечение и «чудеса», а его философия.
Донесли в Калугу директору. Директор вызывает к себе для объяснений. Занял денег, поехал. Начальник оказался на даче. Отправился на дачу. Вышел добродушный старичок и попросил меня подождать, пока он выкупается. «Возница не хочет ждать», – сказал я. Омрачился директор, и произошел такой между нами диалог.
– Вы меня вызываете, а средств на поездку у меня нет…
– Куда же вы деваете свое жалование?
– Я большую часть его трачу на физические и химические приборы, покупаю книги, делаю опыты…
– Ничего этого вам не нужно… Правда ли, что вы при свидетелях говорили про Христа то-то и то-то?
– Правда, но ведь это есть в евангелии Ивана.
– Вздор, такого текста нет и быть не может!.. Имеете ли вы состояние?
– Ничего не имею.
– Как же вы – нищий решаетесь говорить такие вещи!..
Я должен был обещать не повторять моих «ошибок» и только благодаря этому остался на месте… чтобы работать. Выхода другого по моему незнанию жизни никакого не было. Это незнание прошло через всю мою жизнь и заставило меня делать не то, что я хотел, много терпеть и унижаться. Итак, я возвратился целым к своим физическим забавам и к серьезным математическим работам. У меня сверкали электрические молнии, гремели громы, звонили колокольчики, плясали бумажные куколки, пробивались молнией дыры, загорались огни, вертелись колеса, блистали иллюминации и светились вензеля. Толпа одновременно поражалась громовым ударам. Между прочим, я предлагал желающим попробовать ложкой невидимого варенья. Соблазнившиеся получили электрический удар. Любовались и дивились на электрического осьминога, который хватал всякого своими ногами за нос или за пальцы. Волосы становились дыбом и выскакивали искры из всякой части тела. Кошка и насекомые также избегали моих экспериментов.
Надувался водородом резиновый мешок и тщательно уравновешивался посредством бумажной лодочки с песком. Как живой, он бродил из комнаты в комнату, следуя воздушным течениям, поднимаясь и опускаясь.
В училище товарищи называли меня Желябкой (1882 г.) и подозревали, чего не было. Но я бронировал себя хождением по царским дням в собор и говением каждые четыре года.
В то же время я разработал совершенно самостоятельную теорию газов. У меня был университетский курс физики Петрушевского, но там были только намеки на кинетическую теорию газов, и вся она рекомендовалась как сомнительная гипотеза.
Послал работу в столичное «Физико-химическое общество». Единогласно был избран его членом. Но я не поблагодарил и ничего на это не ответил (наивная дикость и неопытность).
Ломал голову над источниками солнечной энергии и пришел самостоятельно к выводам Гельмгольца. О радиоактивности элементов тогда не было ни слуху, ни духу. Потом эти работы были напечатаны в разных журналах.
Река была близко, но на плоскодонке плавать было противно, а новых лодок у нас не было.
Придумал особую, быстроходную. Катался на ней с женой, которая сидела у руля и правила. Знакомый столяр даже выиграл через нее пари у богатого купца, который говорил, что я лодку сделать не сумею. Но когда я проехал на ней мимо его окон, то пришлось заплатить проигрыш. Потом я делал такие же лодки на 15 человек. Нашлись и подражатели.
С помощью своей лодки забрасывал верши и ловил так рыбу. Увлекся этим и ранней весной схватил тиф.
Моя лодка была поверхностью вращения, которая в продольном сечении имела синусоидную кривую. Доски плотно смыкались проникающей их проволокой. Много катался и с парусом. Наезжали на подводные острые сваи (остатки старых мостов), но ни разу не опрокидывались. Все же она была очень валкая, особенно первая – маленькая. Вот – трагикомическое происшествие. Тесть нарядился и собрался в гости. Надо было перевезти его на другой берег. Предупреждал, чтобы не хватался за борта лодки. Лодка закачалась, он испугался, схватился за края и сейчас же кувыркнулся в воду. Я стою на берегу, помираю со смеху, а он барахтается в холодной воде в своем наряде и во всю мочь ругается. Вылез и не простудился. Такое же горе было и с другими. Лодку назвали душегубкой. Большие лодки не были валки…
В теплую погоду ребята вытаскивали кол и катали на ней друг друга. Приходишь к берегу – нет лодки, а лежит какая-то черная рыба, высунув спину. Это была моя перевернутая «душегубка», не загубившая, впрочем, ни одной души.
Зимой с знакомыми катался по реке на коньках. Был такой случай. Вода только что замерзла, и лед был тонкий. Поехали на коньках втроем. Я впереди. Говорю товарищам: «Первый провалюсь я, а вы катитесь тогда назад». Лед подо мной затрещал, показалась вода. Я скорей повалился и лежа полз назад. Так спасся. Что это – отважность или безумие? Я думаю, что и то, и другое.
Приятели ускакали в деревню за помощью, но я выкарабкался самостоятельно.
Сколько раз в бурю (с зонтом) я мчался по льду силою ветра! Это было восхитительно.
Всегда я что-нибудь затевал. Поблизости была река. Вздумал я сделать сани с колесом. Все сидели и качали рычаги. Сани должны были мчаться по льду. Все было закончено, но испытание машины почему-то не состоялось. Я усомнился в целесообразности ее конструкции.
Потом я заменил это сооружение особым парусным креслом. По реке ездили крестьяне. Лошади пугались мчащегося паруса, приезжие ругали матерным гласом. Но по глухоте я долго об этом не догадывался. Потом уже, завидя лошадь, заранее поспешно снимал парус.
Катался на коньках, пока был чистый лед. Попадал и в прорубь. Однажды при этом сильно замочился, а мороз был трескучий. С пальто текло и образовалось множество сосулек. Шел по улице, а сосульки, ударяясь друг об друга, звонили, как колокольчики. Ничего – проходило безнаказанно.
Реку любил. Каждый день в хорошую погоду ездил с женой кататься; жена правила рулем, я работал веслами. Потом пошли дети, и я ездил уже один или (редко) с кем-нибудь из знакомых. Осенью вода очищается от водорослей, которые падают на дно, и вода становится очень прозрачной. Видны все камешки, растения и водное население. Бывало, плывешь по течению и рассматриваешь все это с большим удовольствием.
По берегам, в недоступных местах, по обрывам росла ежевика. Местность была красивая, летом река запружена, и катанье на протяжении трех – пяти верст восхитительное.
Педагогический персонал был далеко не идеальный. Жалованье было маленькое, город прижимистый, и уроки добывались (не совсем чистой) хитростью: выставлялась двойка за четверть или наушничали богатеньким родителям о непонятливости ученика.
Я никогда не угощал, не праздновал, сам никуда не ходил и мне моего жалования хватало. Одевались мы просто, в сущности, очень бедно, но в заплатах не ходили и никогда не голодали.
Другое дело мои товарищи. Это большей частью семинаристы, кончившие курсы и выдержавшие, кроме того, особый экзамен на учителя. Им не хотелось поступать в попы. Они привыкли к лучшей жизни, к гостям, праздникам, суете и выпивке. Им не хватало жалованья. Брали взятки, продавали учительские дипломы сельским учителям. Я ничего не знал по своей глухоте и никакого участия в этих вакханалиях не принимал. Но все же по мере возможности препятствовал нечестным поступкам.
Сам я всегда отказывался от уроков со своими учениками, а другие (чужие) редко попадались.
Несмотря на глухоту, мне нравилось учительство. Большую часть времени мы отдавали решению задач. Это лучше возбуждало мозги и самодеятельность и не так было для детей скучно.
С учениками старшого класса летом катались на моей большой лодке, купались и практиковались в геометрии.
Я своими руками сделал две жестяных астролябии и другие приборы. С ними мы и ездили. Я показывал, как снимать планы, определять величину и форму недоступных предметов и местностей, и обратно, по плану местности, восстанавливать ее в натуре в любом пустом поле. Впрочем, больше было веселости и шалостей, чем дела.
…Были маленькие семейные сцены и ссоры, но я сознавал себя всегда виновным и просил прощения. Так мир восстанавливался. Преобладали все же работы: я писал, вычислял, паял, стругал, плавил и прочее. Делал хорошие поршневые воздушные насосы, паровые машины и разные опыты. Приходил гость и просил показать паровую машину. Я соглашался, но только предлагал гостю наколоть лучины для отопления паровика…
…Летом я еще нашел другую забаву для учеников. Сделал огромный шар из бумаги. Спирту не было. Поэтому внизу шара была сетка из тонкой проволоки, на которую я клал несколько горящих лучинок. Монгольфьер, имеющий иногда причудливую форму, подымался, насколько позволяла привязанная к нему нитка. Но однажды нитка нечаянно внизу перегорела и шар мой умчался в город, роняя искры и горящую лучину. Попал на крышу к сапожнику. Сапожник заарестовал шар. Хотел привлечь меня к ответственности. Потом смотритель моего училища рассказывал, что я пустил шар, который упал на дом и со страшной силой разорвался. Так из мухи делают слона.
Потом уже я свой монгольфьер только подогревал, огонь же устранял, и он летел без огня. Поэтому скоро опускался. Ребята гнались за ним и приносили обратно, чтобы снова пустить в воздух.
32-33 лет увлекся опытами по сопротивлению воздуха. Потом занялся вычислением и нашел, что закон Ньютона о давлении ветра на наклонную пластину неверен. Пришел и к другим, менее известным тогда выводам. Помню, на рождественские праздники сидел непрерывно за этой работой недели две. Наконец, страшно закружилась голова, и я скорее побежал кататься на коньках.
Написанная рукопись и сейчас у меня цела. Потом часть ее была издана в журнале при помощи профессора А. Г. Столетова.
Кстати сказать, у меня до сих пор сохранился учебник аналитической геометрии Брио и Буке, купленный мной в Москве еще в юности. Кажется, сохранились и другие книги этого времени.
С самого приезда в Боровск я занимался усердно теорией дирижабля. Работал и на каникулах. Праздников у меня не было. Как и теперь – пока здоров и не оставили силы – я работаю.
Еще в 1887 году я познакомился с Голубицким. У него гостила известная Ковалевская (женщина-профессор в Швеции), давно умершая. Он приехал в Боровск, чтобы везти меня к Ковалевской, которая желала со мной познакомиться. Мое убожество и происходящая от этого дикость помешали мне в этом. Я не поехал. Может быть, это к лучшему.
Голубицкий предложил мне съездить в Москву к Столетову (известный ученый) и сделать в обществе доклад о своем дирижабле. Поехал, плутал по городу, наконец, попал к профессору. Оттуда поехал делать сообщение в Политехнический музей. Читать рукопись не пришлось. Я только кратко объяснил сущность. Никто не возражал. Делал доклад и доктор Репман. На черной доске он что-то напутал, и я с изумлением рассматривал его чертеж на доске. Слышу громкий голос Михельсона (будущего профессора): «Полюбуйтесь – у вас положительное электричество соединяется с положительным». Я поспешил отойти от черной доски.
Хотели меня устроить в Москве, но не устроили.
В Боровске я жил на окраине и меня постигло наводнение. Поднялись половицы в доме, посуда плавала. Мы сделали мосты из стульев и кроватей и по ним передвигались. Льдины звенели о железные болты и ставни. Лодки подъезжали к окнам, но спасаться мы не захотели.
В другой раз более серьезно претерпели от пожара. Все было растаскано или сгорело. Загорелось у соседей от склада неостывшего угля…
Однажды я поздно возвращался от знакомого. Это было накануне солнечного затмения, в 1887 году. На улице был колодезь. У него что-то блестело. Подхожу и вижу в первый раз ярко светящиеся гнилушки. Набрал их полный подол и пошел домой. Раздробил гнилушки на кусочки и разбросал по комнате. В темноте было впечатление звездного неба. Позвал кого можно, и все любовались. Утром должно быть солнечное затмение. Оно и было, но случился дождь. Ищу зонтик, чтобы выйти на улицу. Зонта нет, потом уже вспомнил, что зонт оставил у колодца. Так и пропал мой новенький, только что купленный зонтик. За это получил гнилушки и звездное небо.
Если я не читал и не писал, то ходил. Всегда был на ногах.
Когда же не был занят, особенно во время прогулок, всегда пел. И пел не песни, а как птица, без слов. Слова бы дали понятие о моих мыслях, а я этого не хотел… Пел и утром, и ночью. Это было отдыхом для ума. Мотивы зависели от настроения. Настроение же вызывалось чувствами, впечатлениями, природой и часто чтением. И сейчас я почти каждый день пою и утром и перед сном, хотя уже и голос охрип и мелодии стали однообразней. Ни для кого я этого не делал и никто меня не слышал. Я это делаю сам для себя. Это была какая-то потребность. Неясные мысли и ощущения вызывали звуки. Помнится, певческое настроение у меня появилось с 19 лет.
В Москве мне пришлось познакомиться с известным педагогом Малининым. Его учебники я считал превосходными, и очень ему обязан. Говорил с ним о дирижабле. Но он сказал: «Вот такой-то математик доказал, что аэростат не может бороться с ветром». Возражать было бесполезно, так как авторитет мой был незначителен. Вскоре умер и он, и Столетов.









