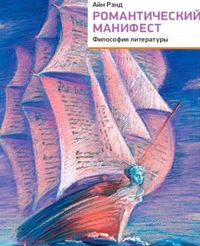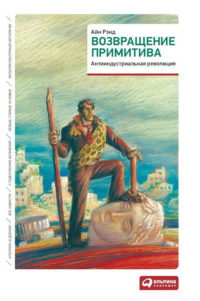Идеал (сборник)

Полная версия
Идеал (сборник)
Язык: Русский
Год издания: 1934
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сноски
1
Герой одноименного романа Синклера ЛьюисаБэббит, впервые опубликованного в 1922 году, представляющего собой сатиру на американскую культуру, общество и образ жизни.
2
Арнольд Ротштейн – гангстер, предположительно стоявший за организацией мировой серии 1919 года по бейсболу.
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу