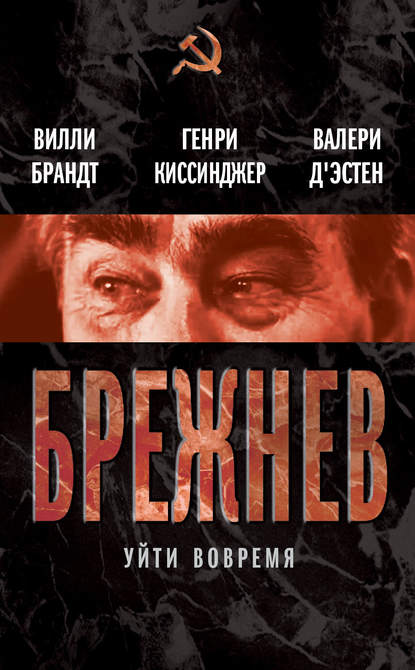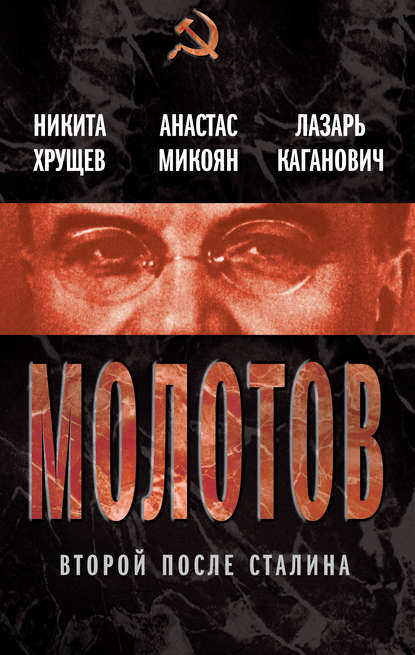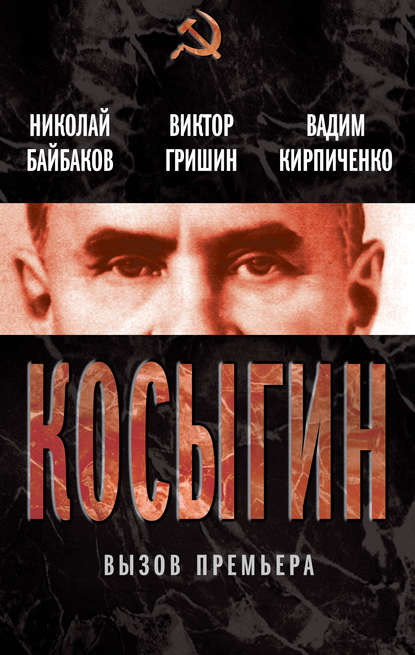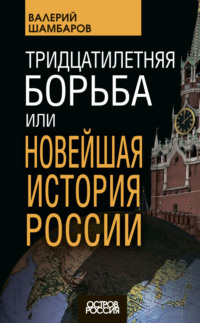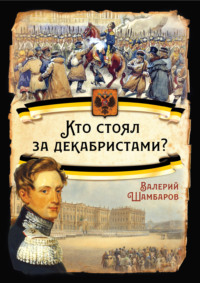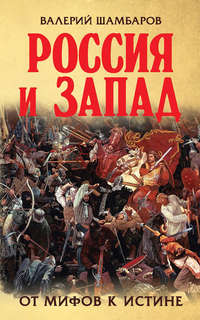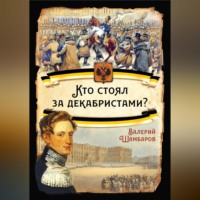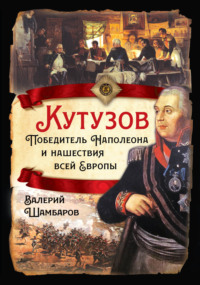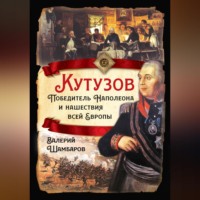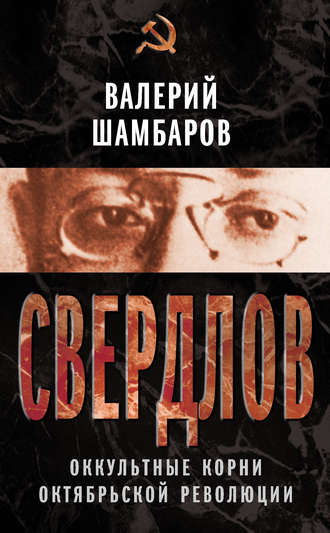
Полная версия
Свердлов. Оккультные корни Октябрьской революции
Кстати, Россия уже не была абсолютной монархией. В 1864 г. Александр II ограничил свою власть введением Судебного Устава. И с этого времени Закон стоял выше воли царя. При Александре стало внедряться и земское демократическое самоуправление, в чью компетенцию входили вопросы благоустройства, здравоохранения, образования, социального обеспечения. Были даны значительные послабления в вопросах «гласности и устности» – то бишь, свободы слова, печати, политических партий. Пошло очень бурное развитие предпринимательства. Но нетрудно заметить и то, что в это же время случился резкий подъем революционного движения. И сам Александр II погиб от рук террористов.
Руководящие круги революционеров очень часто были связаны с масонством. А политические и земские свободы стали благодатной почвой для размножения и роста российских лож (хотя они оставались под запретом – указами Екатерины II, Павла I и Александра I). Полученных послаблений и земских прав либеральной буржуазии было, разумеется, мало. Это только разожгло ее аппетиты. А патриотическая «реакция», национальный политический курс и откат от западничества, наступившие при Александре III, раздражали ее. Впрочем, либералам было без разницы, кто сидит на троне. Кто бы ни сидел, он становился противником. Ведь целью-то была – власть.
Докладная записка Департамента полиции от 10 февраля 1895 г. сообщала: «Ныне боевой аппарат масонства усовершенствован, и формы грядущего натиска откристаллизовались… Разжигание бессознательной ненависти в народной толще против всех и вся – таков второй и главный наступательный ход, выдвинутый ныне масонством в России. Этой мутной волной намечено потопить царя не только как самодержца, но и как Помазанника Божия, а тем самым забрызгать грязью и последний нравственный устой народной души – Православного Бога… Пройдет всего каких-нибудь десять – двадцать лет, спохватятся, да будет поздно: революционный тлен уже всего коснется. Самые корни векового государственного уклада окажутся подточенными».
Да, атака как раз и развернулась через десять лет, даже раньше. Международная обстановка сложилась вполне подходящая. В 1902 г. Англия заключила антироссийский союзный договор с Японией. Между прочим, это был вообще первый в истории Великобритании договор, где она нарушила свою давнюю дипломатическую традицию – не брать на себя никаких определенных обязательств. А в январе 1904 г. последовало вероломное, без объявления войны, нападение японцев на Порт-Артур, на русские корабли в нейтральных портах, высадка войск в Корее и Китае.
Россия же, стоило ей взяться за оружие, вдруг… очутилась в почти полной международной изоляции. Англия выступила открытой союзницей Японии, демонстрировала готовность вот-вот самой вмешаться в драку. При этом британцы очень быстро и ловко (и неожиданно) сумели решить все свои противоречия с российской союзницей, Францией, и в 1904 г. заключили с ней соглашение о разделе сфер влияния в мире. Родилась пресловутая «Антанта». Но сперва-то она носила антироссийский характер! Враждебную позицию заняла и Турция. Отказалась пропустить через Босфор русские военные корабли, и самый сильный флот, Черноморский, оказался запертым. В это же время султан Абдул-Гамид учинил резню армян в Сасуне, что очень смахивало на провоцирование конфликта. На русских обрушилось и американское «общественное мнение». А единственным «другом» выступила, вроде бы, Германия. Но «другом» далеко не бескорыстным. В обмен на «дружбу», то бишь гарантированный нейтралитет и согласие снабжать царские эскадры, Берлин навязал Петербургу кабальный торговый договор на 10 лет.
События русско-японской войны (опять же, под влиянием мирового и российского «общественного мнения», читай – информационной войны) всегда отображались в истории крайне некорректно. Дело в том, что ресурсы России и ее военная мощь многократно превосходили японские, но на Дальнем Востоке дело обстояло наоборот. Япония могла беспрепятственно перебрасывать морем войска и снабжать их, а русских сил там было мало. Пополнения требовалось везти через всю Сибирь. На этом и строились планы Токио. Внезапным нападением уничтожить флот и быстро разгромить русские дальневосточные войска – до того, как подтянутся соединения из Европейской России. Эта стратегия определила и сроки войны. Транссибирская магистраль была построена, но еще имела разрыв у Байкала. И Япония поспешила ударить, пока он существует, пока железнодорожные ветки там не сомкнулись.
И все же план провалился. Русский флот понес потери, но уцелел. Героически держался Порт-Артур. А главнокомандующим полевой армией стал талантливый полководец генерал от инфантерии Алексей Николаевич Куропаткин. Он был учеником и соратником Скобелева, настоящим «отцом-командиром», солдаты любили его беззаветно. Куропаткин сразу осознал невыгодное соотношение сил, разгадал расчеты японцев. Ко всему прочему он одним из первых в военной среде, в отличие от западных стратегов, понял изменившийся характер современной войны. И навязал противнику позиционные, а не маневренные боевые действия. Что по тогдашним общепризнанным доктринам считалось позором, полным неумением воевать. Но для японцев было гибельным. Они изматывались, несли огромные потери в атаках укрепленных позиций. А русские выигрывали время, перебрасывая в Маньчжурию новые контингенты.
И вот тут-то последовал удар «пятой колонны». В спину, по тылам. Забурлило революционное движение. Отметим некоторые особенности вспышки 1904–1907 гг., впоследствии затушеванные. На начальном ее этапе всевозможные социалистические силы выступали единым фронтом, плечом к плечу – эсеры, анархисты, большевики, меньшевики. Причем выступали единым фронтом с либеральной буржуазией и интеллигенцией. Либералы тоже активизировались в это же время. В январе 1904 г. создаются их нелегальные организации – будущие партии октябристов и кадетов. И финансирование в значительной мере пошло за счет богатых либералов, полагавших, что социалисты и рабочее движение будут для них хорошими союзниками. Даже скорее не союзниками, а помощниками – проложат им путь к власти.
Но революции – дело очень дорогое. Частных пожертвований российских спонсоров тут никак хватить не могло. Ведь этих жертвователей и самих революция по карману била, вызывая спад производства, торговли, падение акций. А попробуй-ка профинансировать по всей огромной России многочисленные забастовочные комитеты, стачкомы, выпуск прокламаций, оружие для боевых отрядов, съезды и конференции партий, работу по разложению армии и флота, террористические акты, всякого рода провокации, информационную войну – в период революции практически вся российская частная пресса активно поддержала атаку на власть. Средства на это широко вливались через посредство тех же либералов, многие из которых были связаны с масонством.
В октябре 1904 г. русские либералы-масоны и революционеры различных партий провели в Париже совещание, договариваясь об общности действий. Финансирование революции стало международным. Отнюдь не только британским и японским. Особенно крупные вложения прошли через главу нью-йоркского банкирского дома «Кун, Лоеб и компания» Якоба Шиффа. Одного из руководителей иудейской масонской ложи «Бнайт Брит» (так что по созвучию с «Бнайт Брит» золото и впрямь можно назвать «британским»). В Женеве был создан «Союз освобождения», который координировал деятельность различных революционных партий, обеспечивал их «единый фронт», распределял финансы. Вскоре «Союз» переместился в Россию, начал всюду создавать свои ответвления.
Одним из главных теневых эмиссаров масонства, заправлявших раздуванием революции, являлся Пинхус Моисеевич Рутенберг (впоследствии перебрался в Израиль, являлся председателем «Национального комитета» – фактического правительства еврейских поселений в Палестине). Кстати, и из социал-демократии в период 1904–1907 гг. на ведущую роль выдвинулась отнюдь не ленинская группировка, а те лидеры, которые также были напрямую связаны с масонством – Парвус (Гельфанд), Троцкий (Бронштейн).
Ну а из русских либералов и социалистов, участвовавших в революции, одни в самом деле верили, что в военных поражениях виноват «прогнивший режим», и стоит его изменить, все пойдет иначе. Другие просто полагали, что не грех воспользоваться ситуацией и затруднениями правительства. А были, несомненно, и хорошо понимавшие, что совершают предательство и играют на руку внешним врагам России. Но считавшие это «мелочью» по сравнению с возможностью политического выигрыша. Ну подумаешь, побьют где-то там на Дальнем Востоке. Ох каком дальнем! Зато – «свободы», власть, либерализм… О том, что побьют вполне конкретных, реальных и живых русских солдат, офицеров, матросов, подобные деятели вряд ли задумывались. Как не задумывались наши недавние политиканы, спекулируя на Чеченской войне. Одним из тех, кто принял самое активное участие в данной подрывной кампании, стал и Яков Свердлов.
4. Война и революционеры
Итак, в 1904 г. Свердлов стал «профессионалом» и перебрался из Нижнего в Кострому. Подготовка революции уже шла полным ходом, и был создан Северный комитет РСДРП с задачей объединить разрозненные социал-демократические кружки и организации по Верхней Волге. Свердлов и стал одним из эмиссаров этого комитета. Кострома была крупным центром текстильной промышленности, здесь действовали фабрики Бельгийского акционерного общества, Кашинская, Зотовская. И 19-летний Свердлов снова проявил себя блестящим организатором. Он быстро находит «нужных» людей, связывает их между собой в ячейки, ячейки – в более крупные структуры. Придумывает правила конспирации, налаживает каналы распространения нелегальной литературы. Создает и подпольную типографию.
Еще раз подчеркнем, что революционеры в этот период выступали в теснейшем союзе с либералами и пользовались их активной поддержкой. Так, осенью 1904 г. либералы из «Союза освобождения» развернули банкетную кампанию. Собрания и митинги маскировались под банкеты. Ведь на политические сборища потребовалось бы испрашивать разрешения властей (которые их наверняка запретили бы). А банкет он и есть банкет. Либералы были люди не бедные, почему же не снять зал в ресторане? И кто помешает пригласить на банкет хоть сотню человек, хоть две сотни – кого сочтет нужным хозяин? Эта самая кампания прошла в 34 городах и приняло в ней участие 50 тысяч человек. К.Т. Новгородцева упоминает, что и Яков Михайлович был в числе костромских банкетных активистов, присутствовал и выступал на этих мероприятиях.
Вполне «легальные» респектабельные либералы, к которым полиция и не сунуться не смела во избежание скандала, давали нелегалам пристанище, поддерживали, обеспечивали документами. Как пишет Новгородцева: «Мы… пользовались обычно чужими паспортами, которые нам предоставляли сочувствующие партии, но находившиеся вне подозрения люди, чаще всего из либеральных интеллигентов. Некоторые из нас поддерживали личные отношения с такими либералами, и те охотно отдавали свои паспорта, вручавшиеся нелегалам по усмотрению комитета. Владелец паспорта через какое-то время заявлял о пропаже, платил штраф и получал новый, а по его паспорту в другом городе жил подпольщик. Облегчалась передача паспорта тем, что фотографий на них тогда не было».
Революционное движение ширилось, раскручивалось. В январе 1905 г. начались беспорядки и забастовки в столице. Руководил ими уже упоминавшийся Рутенберг. По ничтожному поводу – увольнение четырех рабочих, забастовал Путиловский завод. За ним остальные. И грянула грандиозная провокация, «кровавое воскресенье». Гапон, создававший свои легальные рабочие организации вроде бы под эгидой полиции, на самом деле действовал под руководством Рутенберга. В массы была внедрена провокационная идея – идти 9 января к царю, изложить ему свои нужды, искать правды и справедливости. Распространялись слухи, будто государь сам хочет встретиться со своим народом, разобраться, как его обманывают чиновники и дворяне.
Царя, кстати, в это время вообще не было в столице. А правительство в последний момент узнало, что вместо петиции, принятой рабочими – с экономическими требованиями, заготовлена другая. Экстремистская, с требованиями созыва Учредительного Собрания, изменения государственного строя. А пункты, выработанные рабочими, перенесены в конец. Узнали власти и о том, что к мероприятию готовятся боевики и террористы. Что в шествиях должно принять участие более 300 тысяч человек. Это была бы катастрофа, грозившая такой же давкой, как при коронационных торжествах на Ходынке. Во избежание беспорядков и давки манифестацию запретили, но было уже поздно. Агитация сделала свое, и с утра 9 января огромные толпы горожан с четырех сторон двинулись в направлении Дворцовой площади. При этом провокаторы подзуживали прорываться в любом случае, даже силой. А если, мол, нам будет отказано, то «нет у нас больше царя». В ряды мирных манифестантов, несших иконы и хоругви, влились в полном составе эсеровские боевые дружины, отряды социал-демократов и анархистов.
Центр города был оцеплен войсками, получившими приказ никого не пропускать, но оружие применять лишь при крайней необходимости. И в четырех местах, на пути движения четырех колонн, на Обводном канале, Васильевском острове, Выборгской стороне и Шлиссельбургском тракте, события развивались примерно по одному сценарию. Толпы останавливались оцеплением, но провокаторы подогревали людей, возмущали – дескать, мы с добрыми намерениями, а нас, надо же, к государю не пускают. И толпы напирали, несмотря на выстрелы в воздух. В солдат летели камни. Из толпы, прячась за спины рабочих и их жен, экстремисты стреляли и из револьверов. И цепи солдат, видя, что вот-вот будут смяты, раздавлены и растерзаны лезущей на них возбужденной массой, били уже по людям. На поражение. После чего начиналась паника, и толпы в ужасе бежали прочь, сминая и топча друг друга. Не столько людей пало от пуль, сколько погибло и перекалечилось в давке. Всего же в день «кровавого воскресенья» было убито и умерло от ран и травм 130 человек, 299 получили ранения. Причем среди этих убитых и раненых были и солдаты, и полицейские.
Но ох какой же подарок получился для смутьянов и агитаторов! Царь расстрелял тех, кто с иконами и хоругвями шел ему челом ударить и просьбы выложить! Ох как взвыло мировое «общественное мнение»! Цифры жертв были многократно преувеличены, вопили о «тысячах расстрелянных». Обстоятельства перевирались, подробности придумывались и приукрашивались новыми беспардонными наворотами. И провокация фактически дала старт общей мощной атаке всей оппозиции. Забурлило по всей стране, забастовки охватили 400 тысяч человек…
Однако само по себе «забурлить» не может. Так не бывает. Нужны активизаторы процесса. А чтобы «бурление» шло синхронно на огромной территории – нужны режиссеры и дирижеры. И в данном плане успехи Свердлова в Костроме обратили на себя внимание руководства. Потому что социал-демократическая партия по-прежнему в значительной мере состояла из пустопорожних болтунов. Или из экзальтированных юнцов и девиц, готовых жертвовать собой (и другими) ради протеста против действительности. Или заводских хулиганов… Но настоящих деловых людей с практической организаторской хваткой в партии очень не хватало.
Скажем, в Северном комитете РСДРП заседали Губельман, Подвойский и прочие лидеры. Но Подвойский был всего лишь учащимся юридического лицея в Ярославле и возглавлял студенческий комитет – то есть, занимался такой же фигней, как Лубоцкий в Нижнем. А Миней Губельман сумел организовать стачку текстильщиков в Ярославле. Одну-единственную, но это считалось такой выдающейся заслугой, что ему даже присвоили псевдоним «Ярославский», вроде почетного звания.
Практические таланты и энергия Свердлова пришлись для Северного комитета очень кстати. Яков Михайлович получает партийную кличку «товарищ Андрей», и его начинают посылать в другие города для активизации там работы и налаживания нелегальных структур. В том числе и в Ярославль, где базировался сам комитет. Видать, не очень-то хорошими организаторами были его руководители и дела у них не слишком клеились, раз они предпочли воспользоваться услугами специалиста, зарекомендовавшего себя в Нижнем Новгороде и Костроме. Разъезжая с места на место, он действует и в Саратове, Самаре, наведывается на родину, в Нижний.
Организует революционные мероприятия, митинги, демонстрации. По поводам, взятым чаще всего от фонаря. Например, в Ярославле превратили в демонстрацию похороны застрелившегося гимназиста Панова, в Нижнем – похороны застрелившегося Н.И. Девятова. Складывается впечатление, что стоило какому-нибудь юному неврастенику и юбкострадальцу пустить себе пулю в лоб, революционеры оказывались тут как тут, превращая дурачка в «политическую» жертву. Для общей раскачки, для нагнетания эмоций. Продолжались и плодотворные контакты с либералами. В июне 1905 года Свердлов выступает в Нижнем Новгороде в помещении Всесословного клуба. Перед купцами, приказчиками. И бросает экстремистские призывы добиваться удовлетворения политических требований «силой и оружием».
Но контактировал он не только с либералами. И успехи его объяснялись не только организаторскими способностями. Он повсюду, как и в Нижнем, активно вовлекает в ряды революционеров шпану. Ведь Волга являлась единой экономической системой – транспортной, портовой, торговой. И мир поволжского «дна» тоже был единым. Хулиганье и бомжи-босяки мигрировали из города в город. Мигрировало и ворье, сутенеры, шулера. То в поисках более выгодного «дела», то уходя от полиции, от кредиторов, от облапошенных обывателей. Или просто ради разнообразия. И человеку, вхожему в нижегородский мир люмпенов, совсем не трудно было найти «своих» в трущобах Ярославля, Костромы, Саратова. Если и не обнаружится старых «приятелей», то по повадкам признают, общие знакомые найдутся.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.