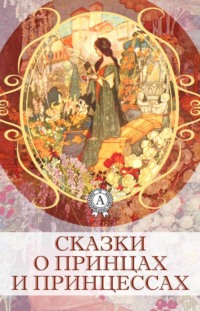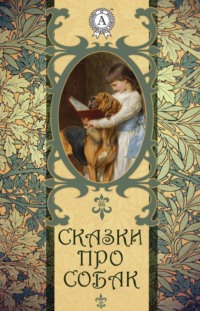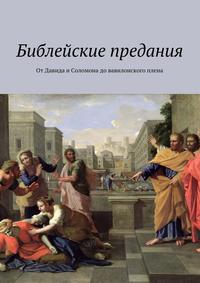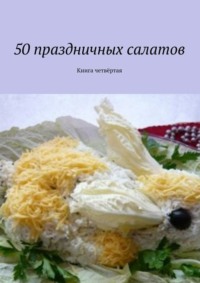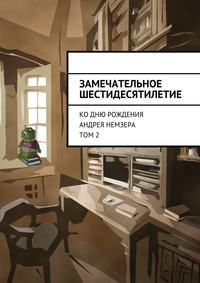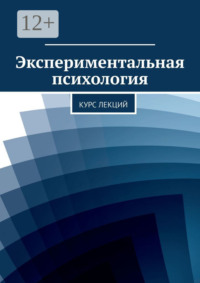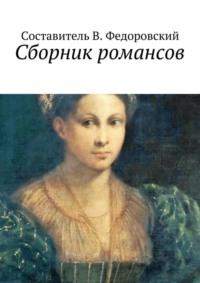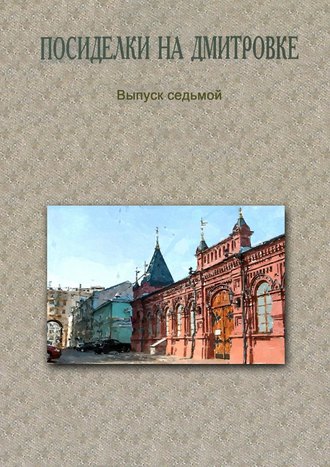
Полная версия
Посиделки на Дмитровке. Выпуск седьмой
Магистериум2
Я обхожусь без василисков и рептилий,И без яиц, снесённых старым петухом, —Обряды с жабами давно уж запретили.Наш философский камень называется Стихом,В котором есть свобода, и бессмертье,И даже то, чего мой разум не просил.Всё превращает в золото, поверьте,Поэзии волшебный эликсир!Альфред Хаусман
Стихотворение №32
From far, from eve and morningFrom yon twelve-winded sky,The stuff of life to knit meBlew hither; here am I.Now – for a breath I tarryNor yet disperse apart —Take my hand quick and tell me,What have you in your heart.Speak now, and I will answer;How shall I help you, say;Ere to the wind’s twelve quartersI take my endless way.* * *
Из утреннего света —Закатного огняДвенадцать ветров небаВдохнули жизнь в меня.Пока я не распалсяНа пыль к исходу дня,Дай руку и скажи мне,Что в сердце у тебя?Помочь тебе успею,А дальше как-нибудьС двенадцатью ветрамиПродолжу вечный путь.(перевод с английского)В небе росчерк тёмных молний
В небе росчерк тёмных молнийЗапоздалых вольных птиц.Вечер с рощею помолвлен —Кружева сползли со спиц…Лицевою и изнанкойСтелет свой узор листваДревних замыслов и знаковВ ритуалах волховства.Это летопись желаний, —Сок томится в деревах,Как предвестник тайных знаний,Что не выразить в словах.Каждый год под птичье пеньеС обновлением колецВ сине-звонкий день весеннийРоща ходит под венец,Чтобы в почву семенамиЗавершить священный круг.Роща в небо окунаетРуки-ветви… ветви рук.3Чердак
Из полутёмной подворотниГулякам поздним для потехДом раскрывает отворотыПромокших стен – Ночной Ковчег,Где каждой твари есть по паре,И одряхлевший пуховик,А у подъезда на бульвареСидит, как памятник, старик.Я, замедляясь как слова,Чтоб не кружилась голова,От запятой до запятойИду по лестнице крутой.На чердаке художник жил, —Он над холстами ворожил,И запах красок сохранилКартон с остатками белил.…Палитра, глиняный сосуд…Как жаль, что старый дом снесут!Последний луч в закате дняНа стенах отразил меня,Но запылённое окноТак одиноко и темноФрамугой машет на ветру,И… разбивается к утру.Я на чердак, как в прошлое, вхожуВо снах, затерянных на краешках карнизов,Как перья голубей среди эскизов,И в зеркало поблёкшее гляжу,Где амальгама дорисовывает мудроСюжеты недописанных страниц —Там до сих пор июнь, и наше утро,И крылья белоснежных птиц…Снегурочки России
Тепло у старого камина…На улице опять зима.А я предчувствием томима, —К весне растаю и сама!Ведь пролески на перелесках,Как отражение небесЧерез хрустальные подвески,В которые наряжен лес,До слёз и обмороков сини!И песни Леля сердце жгут,Когда любви, как Чуда, ждутСнегурочки в моей России…Стужа
У меня замёрзший нос,От мороза стынут пальцы.С неба хрусткие хрустальцыВетер вечером принёс.…Добежать домой скорее,Где меня уже встречаетКошка, спрыгнув с батареи.Отогревшись крепким чаем,Я забьюсь под одеяло, —Там тепло и безопасно.Только этого мне мало,Я домой спешу напрасно,Потому что в звонкой стужеНепослушным и простуженнымРтом молю январь о том,Чтоб весна пришла потом…Натянув Луну на пяльцы,Серебристыми стежкамиПод негнущимися пальцамиРазошью её стихами,Чтоб придать им скорость света.Пусть летят к другим Вселенным!И не жду на них ответаОт существ таких же тленных.Так напугана зимою,Что хочу отправить в вечностьБыстротечное, земное,Неизбежную конечностьЧеловеческих событийС безграничностью открытий.Ведь когда настанет лето,Я забуду стужу эту —В суете и круговертиЛюдям дела нет до смерти…По балкону дождь стучит…
По балкону дождь стучит…Он, как музыка звучит,Повторяясь многократноМногокапельным стаккато многоливневой ночи…Золотые блещут руны!Водяные рвутся струны,Уступая гулкой страстиНенасытного ненастья сквозь басовые ключи!И промокшие дома,Словно книжные тома,Где на слипшихся страницахТрудно жить, но сладко спится и легко сойти с ума…Если чувствам в стенах тесно,Летописец поднебесныйТам, где сбой по ритму слышит,Партитуру перепишет, — всё о нас ему известно!Черты, резы, письмена —В книге Судеб имена…По прямой и по косойПляшет с ветром дождь босой! Этой ночью, как всегда,Вездесущая вода Отмывает… Отмывает… Отмывает города, —Посох Божий не мельчит!По страницам дождь стучит…Осенний букет
Когда я осенний букет собираю,Мне все говорят, что осыплются листья.Они не осыплются. Я это знаю.Во время ненастья дождливо и мглистоОсыпаться могут лишь чёрные дни…Точка бифуркации
Придёт весна, и Город вновьПод ярким Солнцем станет Белым,И люди в этом Городе прозреют,И птицы принесут Благие вести,И рыбы серебром наполнят реки,И золото с небес сойдёт лучами,И розовый закат своей любовьюОбнимет землю и избавит насОт зла и заблуждений. Весна придёт.Алла ЗУБОВА
Девочка среди войны
1941 год. Мне десять лет. 22 июня. Воскресенье. Утро солнечное, тихое. Я прыгаю по классикам, передвигая через чёрточки квадратов плоский камушек. Сейчас выйдет мама и мы пойдем в кондитерскую палатку покупать гостинцы для моих деревенских друзей. Родителям отпуск ещё не положен, и они решили не томить хилого ребёнка в пыльной Москве, а отправить в деревню на Тамбовщину к бабушке вместе с её знакомым односельчанином.
Вышла мама в нарядном маркизетовом платье с плетёной сумкой, и мы направились в магазин. Меня переполняло счастье. Папа и мама весь день будут со мной, а вечером мы пойдём на вокзал, загудит паровоз, стукнут колёса и побегут за окном телеграфные столбы, а я буду смотреть на убегающие дома, деревья, леса и поля…
Улица Домниковская – узкая, длинная – соединяет Садовое кольцо и Комсомольскую площадь, площадь трёх вокзалов. Обычно возле палаток и в магазинах толпятся шумные мешочники, сейчас везде малолюдно. Мы покупаем большие пакеты печений – прямоугольных, с рубчиками, которые называются «Комбайн», сливочные тянучки и кисленькие карамельки «лимончики».
Вдруг показывается колонна машин. На открытых грузовиках сидят солдаты с ружьями, со скатками через плечо. Лица строгие. Доехав до Садового кольца, часть машин поворачивает налево – к Курскому вокзалу, другие направо – к Белорусскому. Стоящие в очереди переговариваются: «Едут на учения».
Дома – сборы в дорогу, наказы, наставления. И вдруг по радио: «В 12 часов будет передано важное сообщение».
Пошли последние минуты моего счастливого детства. И грянуло: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра…» Война!
Папа, собрав какие-то документы, не надев пиджака, в белой шелковой рубашке идет в военкомат. Мама, военнообязанная медсестра, понимая, что мы расстаемся надолго, начала быстро перекладывать мой чемодан, стараясь уложить в него теплые вещи: фуфайки, шапки, рейтузы.
Как это ни странно, на вокзале не было никакой сутолоки. Мой попутчик занёс вещи в вагон, остался при них, а мы с мамой ждали папу. Осталось минут пять до отправления. И вот я вижу: по перрону бежит мой папка – высокий, красивый, рукава шелковой рубашки трепещут на ветру и он похож на большую белую птицу. Схватив меня, крепко обнял, поцеловал. «Дочка, я ухожу на фронт. Запомни хорошо мой приказ. Ты уже взрослая. Ты тоже на войне. Учись хорошо. Помогай бабуле. Пиши мне чаще письма и жди меня».
Паровоз засвистел. Все трое крепко прижались друг к другу. Стукнули колеса. Папа поставил меня на подножку вагона, обнял маму, и они долго махали руками вслед своему единственному дорогому дитятке, которого отнимала у них война.
* * *
Моего двоюродного брата Лёньку Хорошева любила не только вся наша большая родня, но и деревня, в которой он жил, и вся округа. Был он веселой души человек, знал все песни и пел их высоким чистым голосом, неутомимый танцор и плясун, играл на всякой музыке – от гармони до деревянного гребня. У кого какой праздник – он там самый желанный гость. Однажды увидел он в кино, как артист играет на губной гармошке и очень она ему понравилась. Только где ж в глухой деревне её раздобыть?
Сговорились московские дядья и тетушки сделать Лёньке к 20-летию подарок. Собрали деньги. Папа мой съездил в музыкальный магазин и купил губную гармонику, которая лежала в бархатной коробочке на белой атласной подушечке. И этот подарок я везла Лёньке.
Немногим более суток прошло с объявления войны, а как всё изменилось! Всегда тихая, малолюдная станция Инжавино кишела народом. Мы стояли возле вещей, оглядываясь по сторонам, но никого ни встречающих, ни просто знакомых не видим. Вдруг слышу звонкий голос брата: «Алька»! Он проталкивается сквозь толпу, грабастает меня в охапку. Я вырываюсь, бросаюсь к чемодану, достаю бархатную коробочку и протягиваю Лёньке: «Вот! От всей родни!» Он осторожно приподнимает крышку и ахает, бережно берёт гармонику, подносит к губам. Слышится нежный, серебряный звук, сливаясь в мелодию руслановской песни «Ах, Самара-городок».
Лёньку громко позвали: «Хорошев! В строй! На посадку!» Брат, смеясь, махнул мне рукой: «До скорого! Все ребята говорят, с немчурой быстро управимся. К уборочной вернёмся!»
Нет, не довелось ни Лёньке, ни его товарищам убирать хлеб с полей 41-го года. Все погибли, не доехав до передовой. Их состав попал под обстрел вражеской авиации всего-то через две недели после нашей встречи.
Теперь, когда я слышу окуджавского «Лёньку Королёва», с горечью думаю, что эта песня именно о нём… «Не для Лёньки сырая земля».
* * *
Из всего деревенского стада наша коровка Малинка была самая красивая. Каштановой масти с белой звёздочкой на лбу, белым нагрудником и белыми носочками над копытцами, рога небольшие, словно короной украшали её голову. Когда ранним утром бабуля провожала её, я ещё спала, но вечером всегда встречала, держа в руке кусочек присоленного хлеба. Малинка останавливалась, лакомилась гостинцем и благодарно облизывало моё лицо тёплым шершавым языком. Я вела её в маленький хлевушок. Там уже стояло ведёрко с тёплым пойлом – остатками еды и разными очистками. Бабуля, усевшись на скамеечку, мыла Малинке вымечко и, насухо вытерев его, начинала дойку. Струйки молока звонко вжикали, а я гладила коровку по шелковой шее и рассказывала, как мы прожили день, какие появились новости.
Наверное, у ребёнка, который живёт среди взрослых без сверстников, родительский инстинкт зарождается в общении с добрыми и ласковыми домашними животными, нашими младшими братьями. Я очень любила Малинку.
И вдруг грянула беда, откуда её не ждали. Мы с бабулей работали на нижнем огороде. Носили воду из речки и поливали капусту. Видя, что я притомилась, бабуля подбадривала меня: «У зимы рот большой, да и Малинка обрадуется капустному листу».
Закончив поливать, медленно пошли по тропинке к улице. И тут я увидела, что клубы пыли, вздыбленные прошедшим стадом, уже далеко, бросилась бежать. Малинки нигде не было. Заглянула в хлев. Там, низко опустив голову, стояла моя коровка. На спине у неё зияла глубокая рана, виднелась белая кость, по бокам текла кровь. Пришёл ветеринар, осмотрел вздрагивающую Малинку и сказал:
– Кончилась твоя коровка, Кузьминична. На крестце кость никогда не срастётся. Зачахнет животина. Пока не поздно, сдавай её на мясо.
Я уговорила бабулю оставить Малинку. В стадо её гонять перестали. Лечили, чем только могли. Коровка наша плохо ела, давала все меньше молока. Наконец, рано утром бабуля разбудила меня: «Алечка, иди попрощайся с Малинкой».
Моя милая красавица стояла, низко опустив голову, рога были опутаны веревкой. Малинка всё понимала. Я крепко обняла ее за шею и зарыдала. Из глаз страдалицы градом катились крупные, как стеклянные бусы, слёзы. В фиолетовых глазах застыла невыразимая тоска. Бабуля потянула веревку. Коровка жалобно замычала и, нехотя переступая ногами в белых носочках, поплелась следом за ней.
Я плакала навзрыд весь день. Бабуля пришла к вечеру. Тяжело села на лавку, положила на стол тряпочку, в ней, трубочкой скатанные, лежали деньги. Это было всё, что осталось от Малинки. Я уткнулась в старушечьи колени и ещё пуще зарыдала. Бабуля гладила меня по голове и тихо приговаривала: «Ничего, внученька, надо пережить и эту беду. Ведь господь не даёт креста выше наших сил. Как-нибудь выдюжим».
Не знала бабуля, не ведала, что не успеет закрыться дверь за одним горем, как тут же обрушится на нас другое.
Обессилев от слёз, я уснула зыбким тревожным сном. И вот снится мне, будто плыву я над омутом. Вдруг чья-то большая тяжелая рука ложится мне на голову и со всей силой опускает на дно. Не могу дышать. В страхе просыпаюсь, и… мне не хватает воздуха… Его нет совсем. Сейчас разорвётся грудь. Всё… Конец. Кидаюсь к бабуле с отчаянным криком: «Я умираю»!
Так началась моя тяжёлая, непонятная болезнь, которая изнуряла меня по ночам: я задыхалась, сердце бешено колотилось, всё тело билось, как в лихорадке, леденели руки, ноги. Бабуля кропила меня святой водой, читала молитвы, поила отварами трав, но ничто не помогало. Засыпали к утру. Измождённые, днем мы были бессильными работниками. Огород зарастал бурьяном, нам грозила голодная зима. Отчаявшись самой справиться с горем, бабуля попросила почтальоншу отправить маме телеграмму, что я болею.
Нашу почтарку недаром звали Зинка-Востроумка. Шагая в райцентр, она трезво оценила ситуацию военного времени и нашей семьи и отбила категорический текст: «Аля умирает. Срочно выезжай». Случилось чудо: у бойкой Зинки приняли не заверенную никакой медициной телеграмму, а маму отпустили с работы. Поезда уже ходили плохо, и она кое-как, кое на чем, почти без вещей к началу августа добралась до нас.
Болезнь моя продолжалась. В деревню стали приходить похоронки. От папы писем не было.
* * *
Какой злодей погубил нашу Малинку? – мучились мы в догадках. Спросили всех соседей. Нет, никто ничего не видел. Пошли к пастуху деду Степану, который жил на краю деревни. Шли с тяжелым сердцем: ему первому принесли похоронку на сына. Дед сидел на лавке возле избы. Бабуля ему в пояс поклонилась:
– Прими наше душевное сочувствие твоему горю, Степан Иваныч.
Дед сокрушенно покачал головой:
– Какой хороший, работящий был сын, а теперь вот остались четверо его сирот. Ума не приложу, как жить… И про твою беду знаю, Кузьминична.
– Степан Иваныч, может ты кого видел?
– Нет, от пыли дорожной и слёз ничего не приметил.
Выбежал его внук Витюшка, мой ровесник, с дедом в подпасках всё лето ходит. Я к нему с расспросами. Витюшка задумался:
– А чё? Тебя возле избы не было, Малинка постояла у калитки и пошла в проулок по меже. Да-а… А ей навстречу Митюня Самохин шкандыбал… Тяпка у него в руках была.
– Он её тяпкой ударил?
– Не знаю… Не видел…
Теперь нам всё стало понятно. Митюня Самохин… Злобный мужичонка. Лодырь, горлопан, всем указчик. В детстве ему телегой переехало ногу. Стал он хромым, на весь мир обиженным человеком и лютым завистником. А что с него теперь возьмешь? Вина негодяя не доказана. Моё сердце разрывалось от такой несправедливости.
На деньги, полученные за Малинку, бабуля хотела купить на базаре козу. Но моя болезнь отняла у неё последние силы. А когда приехала мама, деньги уже превратились в пустые бумажки.
Внезапность войны не ввела людей нашей деревни в ступор. Чего они только на своём веку не повидали! Жили ещё старики, помнившие японскую войну; было много тех, кто участвовал в империалистической; народ пережил гражданскую, страшный голод 1921 года, антоновщину, жестоко глупое раскулачивание, безграмотную коллективизацию. Сразу же во всей округе с прилавков исчезли самое необходимое: соль, спички, мыло, свечи, керосин, продукты. Кто-то сообразил сделать припасы, но свалившиеся на нашу семью несчастья оттеснили скороспешные заботы, а когда очнулись, было уже поздно. Бабуля сокрушенно повторяла: «Яко наг, яко благ, яко нет ничего».
* * *
Прибывали эвакуированные из Белоруссии, Смоленской, Брянской, Калужской областей. Их расселяли в избах, которые были посправнее, попросторнее, малолюднее. Напротив нас, через улицу, жила Федосья Ильинична Лобкова, маленькая, сухонькая, верткая старушка, все звали ее Фенечкой. Домик у хозяюшки крохотный, но всегда будто вчера побелен, славился он и чудо-печкой: топки она требовала мало, а тепла давала много. К ней-то и попросились на постой две молодые женщины, две сестры – Ляля и Лёля, по фамилии Лебедевы. Скоро соседи узнали их интересную историю. Девочки-погодки росли в профессорской семье, мать и отец преподавали в Смоленском инженерно-строительном институте. Сестры были очень дружны и вместе пошли учиться на инженеров. Однажды на студенческом вечере познакомились с двумя лётчиками, братьями-близнецами Лебедевыми. Вскоре в один день сыграли две свадьбы. А тут – война. Братья получили назначение в боевую летную часть. Фронт стремительно приближался к Смоленску. Ляля и Лёля решили эвакуироваться, но не в дальние края: все Лебедевы были уверены, что скоро фронт откатится на запад, и они вернутся домой.
Зима в 41-м году настала очень рано. Уже в ноябре вовсю бушевали метели, трещали морозы. У меня не было никакой теплой одежды. Разворошив сундуки, мама умудрилась на руках сшить какое-то подобие пальтишка и стёганные матерчатые сапожки. Сверху я надевала старый дедушкин шубный пиджак, влезала в его же валенки 45-го размера, укрывалась вязаным платком и становилась похожей на забавное пугало, которое медленно двигалось на негнущихся ногах. До школы путь неблизкий, из дому приходилось выходить рано. Горячего морковного чая с картофельной оладьей хватало ненадолго. Но чтобы кто-то брал с собой в тряпочке кусок хлеба или сухарь, перекусить на переменке, такого и в помине не было.
Из школы изо всех сил торопилась домой, успеть застать теплые щи. Вот двигаю ногами в огромных валенках, как в снегоступах, а сама во все глаза гляжу на дорогу. Не обронил ли кто кусочек хлеба? О! Вон впереди явно горбушка, облепленная снегом. Спешу, пыхчу, наклоняюсь, беру в руки… Лошадиный котях! И дальше всё то же. Теперь-то уж точно знаю, что котях, но голод искушает: а вдруг!
Дома меня ждут. Бабуля ставит чугунок с варевом, кладёт в миску тёплую картошку. Пусть всё несолёное, пусть без масла, а всё равно вкуснота.
Уроки делаю при коптилке. Тетрадкой служит толстая книга «Речи Плеханова» (на собраниях сочинений Ленина и Сталина писать не разрешалось). Чернила сотворялись из сажи.
Закончив с уроками, коптилку сразу же гасила – даже такую «электроэнергию» приходилось экономить. Укладывались по своим лежанкам, но не спали, слушали, как бабуля рассказывала про старые времена. А рассказывать она была большая мастерица. То до смеху доведёт, то до слёз. Под её голос я засыпала… И спала крепко до самого утра, давая спать и маме, и бабуле.
А моя тяжелая болезнь? Она потихоньку отступала. Помог случай. Однажды бабуля вспомнила, что жил когда-то в Карай-Салтыках (деревня от нас в двенадцати верстах) знаменитый земский врач Дамир, человек дара божьего. К нему даже из Тамбова приезжали. Хворобу любую, как рукой, снимал. Он был и терапевт, и хирург, и владел необыкновенной силой внушения.
Стала мама у всех про него расспрашивать. Кто говорил, что и не слыхал о таком, а кто – будто он уж давно умер. Вдруг на базаре, услыхав такой разговор, проходившая мимо женщина удивилась: «Почему это он умер? Живёт при нашей больнице, только уж очень старенький».
На другой же день отправились мы с мамой в Карай-Салтыки, разыскали необыкновенного доктора. Он поставил меня перед собой, деревянной трубочкой послушал сердце, спину, постукал по локтям и коленкам. Внимательно вгляделся в глаза, своими цыплячьими сухими пальчиками погладил меня по голове и сказал: «Дитятко дорогое, нет в тебе никакой болезни». Представляю, какие удивленные были у меня глаза. «Да, да! Ты здоровая девочка. Только тебя запугал страх смерти. А ты его не бойся. Смотри вокруг себя и примечай всё хорошее, всё красивое, а на плохое не обращай внимания. Лекарства я тебе никакого не пропишу. Лечить ты будешь себя сама. Как только почувствуешь, что страх тебя душить начинает, сразу найди себе интересное занятие, он и уйдёт. Но строго-настрого на всю жизнь запомни одно: тебе никогда нельзя ни сильно радоваться, ни сильно горевать. Ну, иди с Богом!»
Так я стала учиться быть здоровой.
* * *
23 ноября. Мой день рождения. Мама ещё затемно разбудила меня, поздравила, вручила подарки от себя и от бабули: блокнот из настоящей белой бумаги, карандаш, два кусочка сахара, пестренькие шерстяные варежки и носочки. Я чувствовала себя принцессой на большом празднике, хотя внешне всё было обычно: понедельник, дорога в школу и домой в дедовых валенках по сугробам. Однако моё королевское высочество было встречено столом, накрытым расшитой скатертью, горницу освещала керосиновая лампа, на торжественный обед подана пшённая каша. Перебирая подарки, вкушая угощение, сидя рядом с дорогими мне людьми, я понимала: вот это и есть счастье.
Ночью долго не могла уснуть, переживая вновь события этого дня, горько сожалея, что папа не видит, какая я стала большая. С мыслями о папе задремала и сквозь зыбкий сон увидела себя в нашем московском дворе возле забора, который отгораживал соседний двор. Несколько досок в заборе сломаны и сквозь широкий пролом видно низкое строение с большим окном, забранным тяжёлой решеткой. Я осторожно подхожу к окну и вижу: там, за решеткой, сидит папа в нательной солдатской рубашке, сложив на коленях руки. Лицо его очень красивое, но грустное и, как мел, белое. Забор мешает мне близко подойти к нему, тогда я протягиваю руку и зову его домой. Папа слабым голосом отвечает: «Нет, дочка, я сейчас не могу выйти отсюда, не моя воля». Спрашиваю: «Папа, когда же ты придешь?» Отвечает: «Приду, когда ты пойдешь в школу». На этих папиных словах я очнулась. И не пойму, что это было, ведь я будто въявь разговаривала с папой.
Тихонько разбудив маму и бабулю, рассказала им, как я видела папу. Проговорили до утра, решив, что через вещий сон даёт знак, что он в плену, но вернётся. Только когда? Это оставалось тайной.
Теперь, нарушая хронологию событий, переношусь в 1945 год. Москва. 15 сентября. Воскресенье. Мы с мамой в нашей маленькой комнате на Домниковской. Я читаю вслух гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», мама вяжет на спицах платок-паутинку. Раздаётся стук в дверь. На наш голос дверь открывается, и входит папа. На нём просторная куртка, поношенная шляпа, за спиной котомка. Немая сцена оцепенения длится недолго. Я с криком, мама со слезами бросаемся к папе и, крепко обнявшись, все вместе плачем навзрыд.
Уже после, немного придя в себя, папа рассказал, какое невероятное явление спасло его от гибели. В плену, в концлагере, он был членом подпольного комитета, работа которого состояла в том, чтобы помочь людям выжить в тех тяжелейших условиях, не уронить честь советского человека. 22 ноября 41-го года кто-то донес на него, что он вёл антинемецкую пропаганду, говорил, будто Москву не сдали. На другой день утром его поставили перед строем, громко объявили: этот русский – агитатор против немецкой армии и заслуживает наказания. К нему подошли два охранника и стали зверски избивать, пока не решили, что пленному капут. Безжизненное тело оттащили в конец лагерного двора и сбросили в ров, присыпав землёй. Там он пролежал до ночи и вдруг услышал мой голос: «Папа, папа, где ты? Пойдем домой. У меня сегодня день рождения». То ли в бреду, то ли в зыбком сознании он прохрипел, что не может, нет у него сил. Но мой голос настойчиво звал: «Пойдем, пойдем! Я помогу тебе! Давай руку!» Собрав все силы, папа выкарабкался из рва, прополз несколько метров и потерял сознание.
Утром, когда колонна пленных подходила к лагерным воротам, кто-то увидел лежащего человека. Догадались. Подошли. Признали. «С возвращением тебя, Василий Иванович». И отнесли в барак.
До конца войны папу переводили из одного концлагеря в другой, пока не оказался он в Западной Германии. Здесь его освободили американцы. Долог и труден был путь домой. Проверки, комиссии, допросы… Очные ставки… Вот и опоздал он в свою семью к Дню Победы, а пришел только к началу учебного года, когда я пошла в восьмой класс.