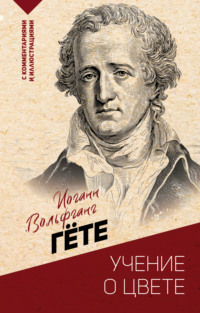полная версия
полная версияСтрадания юного Вертера
Глупцам не в толк, что дело не в местах, и что занимающий первое место редко играет первую роль. Кто первый? Тот, полагаю, кто видит дальше и настолько хитёр и ловок, что употребляет на свои замыслы способности и слабости других.

20 января
С крестьянского постоялого двора, куда я укрылся от непогоды, пишу вам, любезная Лотта! С той норы, как судьба занесла меня в Д*, в это жалкое гнездо совершенно чуждых моему сердцу людей, с той поры даже побужденья не было у меня вам писать. Здесь же, в тесной лачуге, в уединении – здесь первая моя мысль была о тебе! Да, Лотта, живая память о тебе, образ твой – не успел я переступить порога – встретили меня здесь! То же чувство, о Боже, так тепло, так свято! Здесь. где мой окно занесено снегом, где метели, вьюга, непогода кругом – здесь опять первая, блаженная моя минута!
Если б вы меня видели, моя добрая, в городском омуте! Дух сякнет. Ни минуты полноты сердечной; ни часу отдыха обиженной душе; так пусто, пусто все! Стоишь как перед кунсткамерой; смотришь, как передвигаются куколки, и часто спрашиваешь себя: не оптический ли это обман? Попробуешь вмешаться в игру – глядь, тобой играют, как марионеткой. И задумаешься, и схватишь чью-нибудь руку; а рука-то деревянная – и ужас возьмет!
Иногда, с наступлением ночи, думаешь освежить себя восходом солнца; настанет день – на луну рассчитываешь. Нет тебе ни того, ни другого! И не знаешь, зачем встаёшь, зачем идёшь спать. Дрожжей, подымавших жизнь – их нет! Радости, что в ночи убаюкивала, что до зари на пир пробуждала – нет ее! Нет!
В целом городе встретил я только одно женственное женское существо – девицу Б*. Она походит на вас, милая Лотта, если можно походить на вас! «Э!» – скажете вы, «Господин-то на комплименты пустился!» И что же? В этом немножко и правды есть. С некоторых пор, я стал очень любезен – потому что нельзя же иначе – и острю, и женщины говорят: «Никто так тонко польстить не умеет!» И лгать так бессовестно, потому что здесь и без этого нельзя – понимаете? Я заговорил о девице Б*. У нее много души; об этом говорят ее голубые глаза. Ее светское положение ей в тягость: оно наперекор всем ее желаниям. Она рвётся из омута, и мы по целым часам фантазируем о чистых радостях сельской жизни и о вас, моя несравненная. Как часто бывает она вынуждена платить вам дань удивления! Нет, не вынуждена; она это делает добровольно, и всегда слушает с удовольствием, когда говорят о вас. Она любит вас искренно.
О, быть бы мне у ног ваших, а малюткам нашим – вокруг бы нас. Как они резвятся, милые! Зашумят ли очень – у меня сказка в запасе; такая страшная… И прижались ко мне, и притихли все.
Буря миновала и снежное поле блестит в лучах заходящего солнца. А я – я должен опять в свою трущобу? Прощайте! Альберт – у вас? И – как он? Да простит мне Господь этот вопрос!
8 февраля
Вот уже восемь дней, как у нас погода отвратительная; а мне легче. Что пользы в хорошем дне? Испортят же люди, какой бы ни был день! Теперь, когда дождь, слякоть, изморозь на дворе, теперь им портит нечего. Так скверно, и этак скверно; стало быть всё равно, всё хорошо. В солнечное утро мне ещё больней за них; день-то, думаешь, ведь сгубят себе! Ведь нет ничего, чего бы они не портили себе, из-за чего бы не губили друг друга! Здоровье, доброе имя, редкие часы свободы – всё перепакостят; и все от узкости, тупости, неразвитости пониманий! А со стороны послушаешь – всё из участья, всё с лучшим намерением. На коленах просил бы их, иной раз, не терзать так жестоко своих внутренностей!
17 февраля
Кажется, мы с посланником долго не уживёмся: человек этот чересчур невыносим. Его манера работать до того смешна, что нет возможности не противоречить ему, и я часто нахожусь вынужденным дело делать по-своему, что, конечно, ему не по нутру. На днях он жаловался на меня при дворе – и я получил от министра выговор, хотя и деликатный, но всё же выговор. Я уже думал подать в отставку, как получаю от него частное письмо (Как это письмо, так и то, о котором будет ниже упомянуто, не помещены здесь из уважения к высокой особе, писавшей эти письма. Теплейшая признательность читателя, кажется, не искупила бы подобной нескромности.), пред которым я стоял на коленах, сознавая в нем высокое, благородное и мудрое его наставление. Как тонко говорится в нем о моей чрезмерной раздражительности, о моих преувеличенных понятиях на счёт служебных обязанностей! С полным уважением к моему влиянию на дела, к моей настойчивости в проведении мысли, он смотрит на них, как на благородные порывы молодости и советует не искоренять, но сдерживать и направлять их так, чтоб они в своё время, на своём месте, могли принести пользу и достигнуть своей цели. Это на целую неделю укрепило, примирило меня с собою. Душевное спокойствие, довольство собой – благо великое, если бы только, любезный друг, эта редкая вещица не была столь же хрупка, как драгоценна и прекрасна.
20 февраля
Благослови вас Бог, друзья мои, и да пошлёт Он вам светлые дни, в которых ныне отказывает мне!
Благодарю тебя, Альберт, за то, что ты обманул меня. Я ожидал извещения о дне вашей свадьбы и дал себе торжественный обет – снять в тот день силуэт Лотты со стены и сложить его вместе с другими бумагами. Теперь из вас двух вышло одно, а силуэт Лотты остался у меня по-прежнему. Так пусть же и остаётся он! Да почему ж и не так? Ведь я же с вами; я знаю это; знаю и то, что занимаю в сердце Лотты второе место, и не в ущерб тебе. Я хочу и должен его сохранить! О, я бы сошел с ума, если б она забыла… Альберт, в этой мысли – ад. Альберт, будь счастлив! Будь счастлива, ангел небесный, будь счастлива, Лотта!
15 марта
Я имел неприятность, от которой должен теперь бежать. Глотаю желчь, кусаю губы, и всех бы послал к черту! А все вы причиной: вы мне не давали покоя; вы меня пилили, подстрекали взять место, которое мне как к корове седло. Вот и досталось нам всем! Вот и вам угощеньице! А чтоб ты опять не сказал, что всё натягиваю и тем порчу всё, вот тебе, сударик ты мой, рассказец верный и точный, как хроника седовласого летописца:
Что граф К* любит и отличает меня, об этом знаешь; читал сто раз. Вчера обедаю у него, и, как нарочно, вчера же вечером у него собрание, условное собрание, высший придворный круг. Мне и не в толк, что подчинённым, что служащим при графе, словом, что нашему брату тут места нет.
Хорошо. Вот мы обедаем. После обеда расхаживаем с графом по зале. Подходит полковник Б* – мы и с ним пускаемся в разговор. Между тем приближается час съезда; я себе и в ус не дую. Вот входит сиятельнейшая фон С. со своим сиятельным супругом; с ними их дочка, сухопарая княжна; зашнурована в рюмочку, грудь как дощечка; всё как следует. И улыбка у них, en passant, такая благосклонная, и скромно опущенный взгляд, и ноздри при этом раздуты как следует; всё как следует. Противная нация; сам знаешь. Я уже думал бежать, да хотел только сказать слово графу, как входит моя добрая знакомая, девица Б*. А как у меня на сердце всегда отляжет немного, словно наступит оттепель, когда я с ней, так и тут. Становлюсь за ее стулом, разговариваю, и только по прошествии некоторого времени замечаю, что она смущена, что у нее как будто прикушен язык. Странно, думаю, неужели она, как и вся остальная шваль? Как бы не заразиться – и хочу уйти. Но мысль о ней удерживает меня. Давай, думаю, ещё раз попытаюсь; авось, заговорит как следует. Между тем гостей понабралось уже порядочно. Вот и барон фон Ф* со всем своим гардеробом, словно сейчас с коронации Франца I. Вот со своей глухой супругой и надворный только советник Р*, который поэтому здесь именуется не иначе как in qualitate, господин фон Р*. Да не забыть бы и истасканного фон М*? Его полинялый французский кафтан, прикрашенный новомодными кружевами, кажется на нём как с иголочки; не умудришься так. Встречаю и знакомых. Но странно; откуда вдруг лаконизм такой? Смотрю на Б*; она на меня; друг друга не понимаем. Началось шептание, перемигиванье. Княгиня С* отходит с графом в сторону (об этом я узнал после от Б*). Чувствую, что-то неловко, и я уже поближе к двери. Тут граф подходит ко мне, берёт с участием за руку и подводит к окну. «Вы знаете, – говорит, – наши странные приличия. Общество, как я замечаю, недовольно, что вы здесь» – «Ни за что бы на свете!.. Тысячу извинений, ваше сиятельство», – отвечал я. «Мне бы самому подумать, да в голову не пришло. Я и сам хотел уйти, да словно нечистый попутал!» – прибавил я, раскланиваясь. Граф жмёт мне руки с чувством, выразившим всё. Я ухожу, сажусь в кабриолет и еду – лучшего я придумать не мог – за город, посмотреть на закат солнца, да прочесть в Гомере то место, где свинопасы так славно угощают Уиллиса. Хорошо; ничего.
Поздно вечером, когда общество разъехалось, возвращаюсь к ужину, чтобы – понимаешь – как будто ни о чём ни бывало. Однако – черт возьми – кое-кто ещё тут. Скатерть с одного конца откинута, то есть забавляются в кости. Входит наш почтенный Аделин – шляпу в сторону – и прямо ко мне. «Ты, – говорит шепотом, «неприятность имел?» – «Я?» – спрашиваю я. – «Да, ты. Граф тебе на двери указал?» – «Ну их, – говорю: – я рад, что попал на воздух». – «Хорошо, что у тебя желудок такой; другой бы… Жаль только, что все знают о том; что в городе говорят!» Меня как ножом царапнуло и – ну, словно сосет червь. Кто ни придёт к столу, кто ни взглянет – а, вот почему так взглянул! Кровь, понимаешь, начала портиться.
Вот и сегодня, с кем ни встретишься, все с участием к тебе. Знаем мы это участие! Завистники торжествуют и говорят – знаю я, что они говорят! Они говорят: ну-то посмотрим, как вылезет из петли; ничто ему. Немножко поумней, вот и думает, что может стать выше всех отношений. Думает, что… Да кто их, собак, знает, как они там лают! Нож бы в себя всадил! Толкуй себе о самостоятельности; знаем мы. Посмотрел бы я, какую бы ты скорчил рожу, если б мошенники оперлись на дело, да начали бы ругать тебя? Тут не скажешь – врут; тут дело; факт налицо. Нож бы всадил в себя!
16 марта
Всё меня бесит. Сегодня встречаюсь в аллее с девицей Б*. Я не мог воздержаться, чтоб с ней не заговорить – и когда мы несколько поотстали от других, чтоб не намекнуть на ее загадочное обращение со мной в последний раз. «Вертер, – сказала она голосом искренним: – можете ли так объяснять моё замешательство, зная меня? Мне было за вас больно с той самой минуты, как я вошла в зал. Я всё предвидела, и сто раз вертелось у меня на языке – предупредить вас. Я знала, что С* и Т* со своими мужьями скорее оставят собрание, нежели останутся с вами. Я знала также, что графу нельзя с ними разойтись – и вот эти толки, этот шум!» – «Как?» – спросил я, скрывая свой испуг. Всё сказанное мне третьего дня Аделином тут сильнее высказалось, и меня словно обдало кипятком! – «Если б вы знали, чего мне это стоило?» – продолжала она, и слёзы блеснули в ее глазах! Я был вне себя, я готов был упасть к ее ногам. – «Объяснитесь!» – сказал я. По ее щекам покатились слёзы; но, не скрывая их, она отёрлась платком и сказала: «Вы знаете тётушку; она была всему свидетельницей. О, какими глазами она смотрела на это всё! Вертер, целую ночь вчера, целое утро сегодня, должна я была выслушивать отповедь за моё обращение с вами! Вас бранили, вас унижали; а я – могла ли, смела ли я защищать вас так, как бы желала. Только в половину могла я…»
Каждое ее слово было мне как острый нож! Она не знала, какое бы благо оказала мне, если б умолчала о многом. А тут она ещё заметила, каким пересудам подвергаюсь я, какие люди будут торжествовать; как будут радоваться моему уничиженью те, которым холодное и небрежное моё обращение давно уже кололо глаза… Вильгельм, слышать всё это от неё, слышать голос участия искреннего… Я был растерян, взбешен, да и теперь ещё не могу прийти в себя. Хотелось бы, чтоб кто-нибудь упрекнул в глаза, чтоб всадить в того шпагу! Впечатление крови, кажется, облегчило бы меня. Ах, сто раз уже хватался я за нож, чтобы дать простор этому сердцу! Рассказывают о славной породе арабских лошадей: когда их слишком разгорячат, загонят, они по инстинкту – чтобы вздохнуть – прокусывают себе жилу. Со мною тоже: ради вечной свободы, я отворил бы себе кровь!
24 марта
Я подал в отставку и надеюсь скоро получить её. Не прогневайтесь, если не испросил на это вашего позволения. Решено. Здесь не останусь, и всё, что вы имеете мне сказать, все это знаю наперёд. Подсласти, рассиропь и поднеси это матушке. Скажи, что если я себе не могу помочь, так пусть извинит, если и ей пособить не в силах. Конечно, это ей будет тяжело. Сынок на такой славной дороге; карьера ему такая блестящая впереди; тайное советничество, посольство и вдруг – стой, лошадка! Марш в своё стойло! Судите, рядите, как вашей душе угодно; придумывайте всевозможные казусы, при которых бы я мог оставаться. Я решительно ухожу, и могу даже сказать куда. Некто князь *, с которым я сошелся, узнав о моём намерении, пригласил меня в своё поместье провести с ним нынешнюю весну. По его словам, я не буду стеснён ни в чём и буду совершенно предоставлен себе. А как мы до известной степени поняли друг друга, то куда ни шло, думаю, попытаю счастье поеду с ним!
10 апреля
Спасибо разом за два письма! Я не отвечал до получения отставки, опасаясь, чтобы матушка не отнеслась к министру и не затруднила моего намерения. Теперь всё кончено – отставка получена. Не буду расписывать вам, как неохотно мне дали её и что мне пишет министр – вы подняли бы плач Еремии! Наследный принц прислал мне на подъём 25 червонных, при письме, тронувшем меня до слёз. Таким образом, деньги, о которых я недавно писал тебе, могут оставаться в экономии матушки.
5 мая
Завтра выезжаю отсюда. Моя родина только на шесть миль от дороги в сторону; навещу её. Хочу вспомнить былые годы; припомнить, как сладко мечталось когда-то. Въеду в те же ворота, из которых выехал вместе с матушкой, когда она по смерти отца оставляла родное местечко, чтобы запереться в скучном городе. Прощай, Вильгельм! О подробностях поездки уведомлю.
9 мая
С благочестием пилигрима совершил я поездку на родину и испытал при этом чувства ещё неизведанные. У старой большой липы, в четверти часах от города к местечку С*, я остановился, вышел из экипажа и отпустил лошадей вперёд, чтобы пешком, на свободе, вкусить от каждого плода живых воспоминаний. И встал я под эту липу, бывшую когда-то пределом и целью моих детских прогулок. Какая разница во впечатлениях! Стремлениям юного сердца, сколько надежд предстояло им, сколько пищи они обещали ему! Как рвалось оно в своём блаженном неведении к миру неизвестному, полному невыразимых обаяний! Гористая окрестность, когда-то предмет моих пытливых чаяний – по целым часам я мог уноситься к ней, улетать в леса, в долины, являвшиеся мне в какой-то смутной и чарующей красе! И когда, бывало, наступит урочный час, как неохотно расставался я с этим заветным местечком!
Когда я подошел к городу, мне все старые, знакомые домики, беседки – улыбнулись; все новые постройки были противны мне. Едва я перешагнул за городские ворота – прошедшее ожило, стало настоящим. Оставляю подробности. Всё, что имеет такую прелесть для меня, могло бы показаться тебе скучным.
Я остановился на площади, возле бывшего нашего дома. Мимоходом я заметил, что учебная комната внизу, куда старая, честная няня собирала нас к учению, превращена в мелочную лавку. Сколько тут было пролито слёз, притуплено чувств и пережито одуряющих ощущений! Всё живо, словно в очию – и в душе моей, как в душе путешественника ко святым местам! А эта речка, а тот пригорок, с которого мы, дети, бывало, забавлялись рикошетами, запасаясь силами мышц! И следишь за течением реки, и думаешь Бог весть как далеко с нею уплыл! Молодые-то крылья фантазии только учились летать – и как недалёк был их полёт! Друг мой, не также ли чувствовали и наши праотцы? Сколько детского, сколько простодушного в поэзии их! Когда Уиллис говорит о бесконечной земле, о необозримом море, как человечно, как естественно, ограниченно, сказочно он говорит! Что толку мне, если я знаю теперь со всяким школьником, что земля кругла? Человеку довольно нескольких саженей, чтобы быть счастливым, и ещё того менее, чтобы в ней сложить свои кости!
Вот я в княжеском, охотничьем заике. С князем можно жить. Он прямодушен и прост. Но что за странные люди окружают его? я даже их в толк не возьму. И бездельниками их не назовёшь, и на честных людей они не походят. Иногда они кажутся такими, а всё как-то не доверяешь им. Одно мне не нравится в князе: он часто говорит о вещах, о которых только слышал или читал. От этого у него нет своих взглядов, а стало быть нет и своих убеждений. Безделицы нет!
Он ценит мой ум, мои таланты. О моём сердце он и не думает; а оно-то и составляет мою единственную гордость, будучи источником всех моих сил, всех моих радостей и страданий. Как я мыслю, что я знаю, так может мыслить и может знать то и другой. Таким сердцем как моё – владею я один.
25 мая
У меня была мысль, о которой я не хотел говорить, прежде чем осуществится она. Теперь, когда из неё ничего не вышло, теперь могу сказать: я собирался на войну, и, признаюсь, это предприятие было главной причиной моей поездки с князем, который служит генералом в войсках. Недавно, на прогулке, я сообщил ему моё намерение. Он отсоветовал, отклонил его – и я согласился с ним. Это доказывает, что истинного влечения тут не было; что и это была не более, как мимолётная причуда.
11 июня
Говори и думай, что хочешь обо мне; я долго тут не останусь. Что мне здесь? Правда, князь со мною так хорош, как только возможно; а всё же я не в своей тарелке. В сущности, у нас с ним ничего нет общего. Человек он с умом, но с умом обыкновенным. Беседа его, как книга хорошего слога, как чистенькое изданьице. С неделю пробуду ещё здесь; а там опять – куда глаза глядят! У него есть чувство изящного, есть вкус к живописи. Но этот проклятый тон знатока, эта казенная терминология – всё портят! Иногда в тебе разыграется фантазия и проснётся, разгорится чувство к природе, к искусству, а он думает, что дело сделал, если подсунет клеймёное словцо, угодит торным, избитым термином – словно водой обольёт!
16 июля
Ну, конечно, я только странник, путник на земле! А вы-то разве больше?
18 июля
Куда отправлюсь? Об этом позволь тебе сказать на ухо. Недели две придётся всё-таки пробыть ещё здесь: а потом – признаться, мне не малого стоило труда уверить себя в этом – потом желаю осмотреть соседние, горные кряжи. В сущности-то, понимаешь, хотелось бы поближе к Лотте, так, хоть немножко поближе… Я и сам смеюсь над моим сердцем, да не могу отказать ему.
29 июля
Хороню, превосходно, отлично! Я – представь – ее муж! О, мой Создатель! Если б Ты взыскал меня этим блаженством, вся моя жизнь была бы одной молитвой. Пенять не буду. Прощаю и себе эти слёзы, эти напрасные желания. Она – жена моя! О, если б я мог её заключить в объятия! Говорю тебе, Вильгельм, я содрогаюсь при одной мысли, что Альберт обнимает ее стройный стан!
И – скажу ли? Почему же и нет? – она была бы счастливее со мной. Нет, он не может исполнить всех желаний этого сердца. Недостаток симпатии, недостаток чего-то – сам объясни себе это! Сердце его не забьётся – о, не забьётся как наше, вот хоть бы при известных строках известной книги; не забьётся так и во многих случаях. Когда речь, например, зайдёт о том, о другом… И то сказать, мой милый, он любит ей от всей души, а такая любовь – чего не заслуживает она?
Скучный посетитель прервал меня; слёзы обсохли. Я рассеян. Милый, прощай!
4 августа
Не со мной одним; то же и с другими. И они обмануты в своих надеждах, в своих ожиданиях. Я далеко зашел на прогулке и навестил сегодня ту добрую женщину под липами, о которой уже писал тебе. Ее старший сын бросился мне на встречу. На его радостный крик пришла и она. Словно убитая, как изменилась она! Первым ее словом было: «Ах, сударь, Ганс-то мой – это был ее младший – Ганс-то мой, ведь, умер!» – Я ни слова. – «А муж-то мой из Швейцарии вернулся ни с чем. Без добрых людей пошел бы по миру; только лихорадку дорогой схватил!» – Я ни слова; я только детям дал немного денег; она же предложила мне взять несколько яблок, что я и сделал, оставляя место печального воспоминания.
21 августа
Куда ни оглянешься, всё не то. Иногда как будто блеснёт заря радости, улыбнётся жизнь – увы, но одно мгновенье! Начнётся возня с мыслями, с мечтами – и что мудрёного, когда тут придёт в голову: если б умер Альберт? Ты бы! да она бы! И погонишься за привидением. Ты за ним, а оно от тебя, пока не приведет к бездне, пред которой содрогнёшься.
Намедни я как-то попал на ту дорогу, по которой, когда я познакомился с Лоттой, мы ехали на сельский бал. Я даже не узнал окрестностей: так изменилось всё. Да, всё не то, всё прошло. Ни одного мгновения той жизни, ни одного удара того пульса, чувства того! Со мною, как с духом владыки над пепелищем его прежнего величия. Чудный он воздвигнул замок; блеском, великолепием украсил его. Всё – сыну, цветущему юноше… Замок расхищен, выжжен дотла!
3 сентября
Я не понимаю иногда, как другой может её любить, смеет её любить, когда только я один люблю её так искренно, так свято, и ничего другого не ведаю, не знаю и знать не хочу, как только её одну!
4 сентября
Да; это так. Со мною, как с природой: она клонится к осени – и во мне бушует осень; мои листья желтеют – и уже желтый лист падает с деревьев. Я, кажется, писал тебе, ещё в начале моего пребывания здесь, о влюблённом крестьянском парне. Теперь я осведомился о нём. Оказалось, что ему от места отказано, что о нём никто слышать не хочет. Вчера я, встретил его и разговорился с ним. Вот его история. Из неё поймешь, как глубоко он тронул меня! Зачем всё это? Зачем делюсь с тобой только тем, что пугает и огорчает меня? Зачем к моей горечи примешивать ещё твою? Зачем тебе подавать новый повод бранить меня, сострадать обо мне? Но, стало быть, и это принадлежность моей судьбы. Слушай же!
Робко и с тихою грустью он отвечал мне сначала только на вопросы; потом, как бы узнав старого знакомого, стал откровеннее, признался мне в своей вине, жаловался на своё несчастье. Но едва заговорил о том времени, когда неодолимая его страсть росла с каждым днём, когда он не знал, что делать, куда преклонить голову, лицо его одушевилось и он с наслаждением, даже с восторгом, как бы упиваясь воспоминанием, говорил, что ни есть, ни пить не мог, что часто делал то, чего не следовало, забывал о том, что приказывали; что его как будто дух нечистый погонял, и что раз, когда хозяйка ушла в свою светёлку, он пошел за ней или, вернее, был кем-то увлечён туда. «Когда она осталась равнодушна к моим просьбам, я решился ею овладеть силой, – сказал он: – но призываю Бога в свидетели, что не помнил, что делал, что в этом сам не узнаю себя, что мои намерения были всегда честны, и что, говоря искренно, я желал только составить ее счастье и ей посвятить свой век».
Рассказывая далее, он вдруг задумался, стал запинаться, как человек, который хочет что-то сказать и не решается. Тут он с робостью рассказал мне, какие перед тем откровенности, какие маленькие вольности она позволяла ему. Раза два он останавливался и разразился наконец потоком живейших уверений, что в первый раз решается это вымолвить, что говорит это не для того, чтобы чернить её, а только в доказательство, в смягчение своей вины, чтоб убедить меня, что он вовсе не так испорчен, как это казаться может; что он любит и уважает её по-прежнему.
Тут, мой милый, я спою тебе мою старую песню: если б я мог представить его таким, как он стоял и стоит теперь передо мной! Если б ты мог знать, какое я в нём принимаю участие, и должен принимать! Впрочем, тебе известна судьба моя настолько и ты настолько знаешь меня, чтобы понять, почему и что меня привязывает ко всем несчастным, особенно к этому бедняку.
Перечитывая письмо, вижу, однако, что я забыл о конце истории. Вызванный сопротивлением хозяйки, явился ее брат, давно ненавидевший влюблённого парня из опасения, чтобы бездетная сестра не вышла замуж и не лишила его детей надежд на наследство. Этот выгнал его тотчас из дому и поднял такую тревогу, что если б она и пожелала, то уже не могла бы поступить иначе. «Теперь, – сказал он в заключение: – она взяла другого работника. Говорят даже, что он женится на ней и что из-за него она поссорилась с братом. Но я решился не пережить этого!»