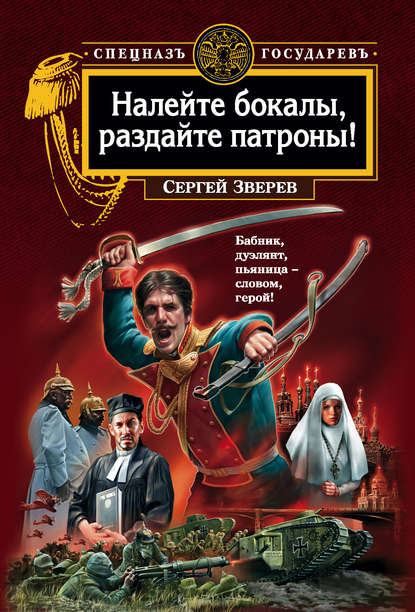Полная версия
Господа офицеры
Солнечный лучик дотянулся до лица спящей женщины, нежно тронул ее щеку, пощекотал шею. Вера Холодная вздохнула сладко и глубоко, потянулась под атласным белым покрывалом всем своим гибким молодым телом, открыла глаза. Актриса изящно, словно кошка, повернулась, бросила взгляд на настенные часы: начало двенадцатого.
«Рано еще! – подумала Вера Холодная. – Попытаться снова заснуть?»
Королева синематографа ни в коем случае не была лентяйкой и сибариткой, работала Вера Холодная до седьмого пота. Но и отдохнуть она умела! К тому же вставать с петухами в ее кругу считалось – как бы это сказать? – немодным. Принято было отходить ко сну далеко за полночь, ближе к рассвету. Ничего не попишешь – стиль жизни такой! Волей-неволей до полудня в кровати нежиться будешь.
Еще раз: работать Вера Холодная умела и любила, пользовалась громадной популярностью, а потому и зарабатывала немало, даже по столичным меркам. С такими доходами она могла позволить себе снимать роскошную семикомнатную квартиру на втором этаже одного из новых многоэтажных домов на Александровском проспекте. Квартира была оформлена и обставлена в едином стиле, который лучше всего назвать изысканным декадансом. Стиль этот, отличающийся утонченностью и барочной вычурностью, в котором оригинальность исполнения преобладает над содержанием, не совсем, пожалуй, соответствовал собственным вкусам Веры Холодной, она предпочла бы что-нибудь попроще, но… Назвался груздем – полезай в кузов! Что это за «роковая женщина, снедаемая страстями», без декаданса? Не поймут-с!
Спальня актрисы была выдержана в бело-золотых тонах. Казалось, что в этой просторной комнате нет ни одной прямой линии, даже углы стен были слегка округлены. Огромное зеркало отражало два туалетных столика, раскиданные по ковру в кажущемся беспорядке мягкие табуретки на гнутых ножках, полочки и этажерки, уставленные вазочками, флакончиками и какими-то красивыми безделушками вовсе непонятного назначения.
Живых цветов в спальне не было, для них, – а Вера Холодная получала букеты и корзины с цветами ежедневно и в немалом количестве, – другие комнаты есть. Зато было очень много изображений цветов, выполненных разными художниками, но в одинаковой манере. Той же самой – поздний декаданс, когда не сразу догадаешься, что это за цветок изображен и цветок ли это вообще.
Конечно, не только цветы были темой небольших картин, рисунков, набросков, эскизов, которые были во множестве развешаны по стенам комнаты. Вера вообще любила живопись и неплохо разбиралась в ней.
Она гордилась, что ей дарили свои работы такие признанные мастера, как Александр Бенуа и Мстислав Добужинский. Но более всего актриса любила небольшой этюд прерафаэлита Габриэля Росетти, женскую головку. Этот этюд висел над одним из ее туалетных столиков, и, хоть внешнего сходства с хозяйкой квартиры в женской головке не обнаруживалось, чем-то она неуловимо напоминала Веру. Гордым и загадочным взглядом, быть может?
Одно изображение вносило явный диссонанс в это художественное изобилие. Уже хотя бы потому, что это был фотопортрет, единственная фотография в комнате, ее актриса повесила над вторым туалетным столиком. Фотопортрет был выполнен в тоне сепия, с него смотрела сама Вера Холодная в одной из своих ролей. Актриса недаром любила этот портрет: фотографу удалось почти невозможное, он смог передать стремительное и текучее выражение ее прекрасного лица, поймать неуловимый момент перехода одного настроения в другое.
Поспать еще часок Вере так и не удалось – раздался осторожный стук, дверь открылась, и вошла горничная:
– К вам с визитом молодой мужчина, офицер. – Она протянула хозяйке серебряный подносик.
Актриса привстала, взяла с подносика визитную карточку: «Князь Сергей Михайлович Голицын, поручик Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка».
– Ах да! Я же сама… На половину двенадцатого… Просите!
Нет ничего удивительного в том, что Вера Холодная собиралась принять Голицына в спальне, лежа в постели. Это тоже было принято в ее кругу, представляло еще одну черту того же куртуазного, богемно-декадентского стиля.
Сергей вошел, коротко поклонился:
– Я всецело к вашим услугам, сударыня!
– Присаживайтесь, князь, – сейчас, полулежа, одетая лишь в пеньюар и укрытая атласным покрывалом, Вера Холодная была редкостно очаровательна. – Я очень признательна вам за визит.
Голицын уселся на пуфик, стоящий рядом с овальной кроватью. Его ноздрей коснулся тонкий аромат женской кожи и французских духов «Пуазон».
«Бог мой, но до чего же она хороша! – подумал Сергей. – Зачем же я ей понадобился?»
Ответ он получил немедленно:
– Князь, меня очень волнует судьба моего несчастного брата. Мы всегда были так близки с Андреем! И вот он в плену, я ничего не знаю о нем… Может быть, он тяжело страдает… Я подумала: вы ведь будете там же… Возможно, встретите Андрея, поможете ему…
– Простите, где «там же»? – недоуменно поинтересовался поручик Голицын. – В плен я не собираюсь! И, окажите любезность, называйте меня просто Сергей, ведь мы же не на официальном приеме.
Недоразумение быстро разъяснилось: просто Вера Холодная была бесконечно далека от военного дела и фронтовых реалий. Она наивно полагала, что русско-турецкий фронт представляет собой нечто вроде большого светского салона, где все друг друга знают. Актриса была наслышана о поручике Голицыне, героический ореол, окружавший князя, навел женщину на мысль, что Голицын, может быть, поспособствует освобождению штабс-капитана Левченко… Правда, механизм этого «способствования» Вера Холодная себе совершенно не представляла. Ну, совершит блистательный поручик очередной геройский подвиг, долго ли ему, и ее любимый брат окажется на свободе! Да, да – это было трогательно похоже на то, как представлял себе предприятие по вызволению штабс-капитана Левченко из плена влюбленный в Веру великий князь Николай.
Сергей только усмехнулся мысленно такой детской наивности, но разубеждать актрису в своей способности хоть луну с неба достать ему вовсе не хотелось! Эта женщина кружила ему голову, глядя на нее, он пьянел, точно от бокала «Ирруа». Теперь он хорошо понимал молодого великого князя Николеньку: ради такой в преисподнюю полезешь дьявола за рога дергать.
Сергей Голицын кем-кем, а монахом и аскетом не был! Он любил женщин и пользовался взаимностью, потому что был молод, хорош собой, редкостно обаятелен, остроумен и весел. Да к тому же тот самый героический ореол! Еще бы Голицыну не пользоваться успехом у женщин! У поручика было множество романов, но надо сказать, что ни в одном из них не было и следов пошлости. Нет, это всегда становилось прекрасным дуэтом во славу радости жизни и любви. И вот сейчас поручик явственно чувствовал, как его медленно, но верно затягивает воронка нового любовного омута.
Сопротивляться? А с какой бы стати?!
– Ведь вы обещаете, Сергей?
– Я постараюсь, – честно ответил поручик. – Но я очень постараюсь! Я сделаю все, что смогу, для спасения вашего брата, сударыня, – добавил он, подумав, что в самом деле совершит все возможное и невозможное ради того, чтобы добиться благосклонности этой прекрасной женщины.
– Сергей! – томным голосом произнесла актриса. – Я попрошу вас еще о двух одолжениях…
– Рад служить вам! – наклонил голову князь.
– Во-первых, вы тоже называйте меня просто Верой. Договорились? Вот и замечательно! А во-вторых… – она некоторое время молчала, а затем, вздохнув, продолжила: – Ах, эта проклятая война, будь она неладна! У меня есть личный оператор, он снимал три последних моих фильма. Владислав Юрьевич Дергунцов, вы, Сергей, возможно, видели Владислава на том приеме у графа Нащокина. Такой, с усиками. Он еще не отходил от меня. Я очень ценю этого человека, Сергей! Нет, нет, не как э-э… близкого друга, а как изумительного профессионала. Посмотрите: вон, над столиком мой фотопортрет. Это его работа. Превосходно, не правда ли?
– О да! Но в жизни вы еще прекрасней, Вера! – пылко воскликнул Голицын.
Королева кино потупила глаза:
– В самом деле? – Вера Холодная не сомневалась в искренности восхищения князя, она себе цену знала. – Так вот, хорошего оператора нелегко найти, а такого, как Владислав, почти невозможно. И что же? Дергунцов мобилизован! Никак не удалось освободить его от этого… Будет фронтовым корреспондентом. Он меня просил… Словом, не могли бы вы поспособствовать, чтобы Владислав был направлен именно в Турцию. Он считает, что там безопасней всего…
«Это очень зря он так считает! – мысленно усмехнулся Голицын. – Хотя, конечно, веселые кабачки Тифлиса и Эрзерума – это не гиблые болота Восточной Пруссии! Странная позиция для мужчины: стремиться туда, где опасность меньше… Впрочем, что с него, штафирки, взять! Замолвлю словечко, никакого труда мне это не составит».
– Сделаю все, что в моих силах! – пообещал Голицын. – Не думаю, что добиться этого будет слишком сложно.
– Я бесконечно признательна! – ее губы дрогнули в улыбке, щеки окрасил слабый румянец. – Но, возвращаясь к моей главной просьбе… Сейчас я покажу вам фотографию моего несчастного брата!
С этими словами Вера Холодная, откинув покрывало, встала с кровати и, как была, в пеньюаре, босиком, подошла к бюро красного дерева и открыла один из ящичков.
Голицын с восхищением глядел на стройную фигурку актрисы и ее маленькие босые ножки. Вера Холодная обладала изумительно пропорциональным сложением и двигалась грациозно, как профессиональная танцовщица. Сердце поручика билось все сильнее, во рту пересохло. Да, Вера была неописуемо хороша и желанна.
– Вот он, мой братик Андрюша! – женщина протянула Сергею фотографию кабинетного формата. При взгляде на нее Вера не смогла сдержать слез.
– Тому, кто спасет моего несчастного брата… я бы все на свете… до конца дней!.. – тихо сказала она.
В ее широко открытых глазах Сергей Голицын явственно прочитал: «Спаси моего брата, и я буду твоей!»
…Уже садясь в пролетку, поручик Голицын четко осознал: он пылко влюбился в эту роковую женщину! Сергей с замиранием сердца вспомнил, как на прощание Вера обвила руками его шею и нежно прикоснулась губами к щеке:
– Я буду молиться за вас, Сергей…
Он достал трогательный подарок Веры: медальон с ее портретом и прядью волос, посмотрел на него восхищенным взглядом и покачал головой.
«Ну и влипли вы, князь! – мысленно сказал Голицын, обращаясь к самому себе. – Просьба Фредерикса, да что там Фредерикса, самого государя императора! Обещание, данное блистательной Вере… Не очень-то ясно, как их совместить! А самое главное: воевать-то когда, разрази меня гром?! Уж, наверное, генерал Юденич передо мной свои задачи поставит…»
7
Казалось бы, Вильгельм фон Гюзе имел все основания быть довольным: уже сутки чудовищная гаубица исправно выпускала снаряд за снарядом. Изделие крупповских оружейников работало четко, как часы. Столь же четко работали сменяющие друг друга орудийные расчеты.
Но ни немец, ни его номинальный начальник, турецкий генерал Махмуд Киамиль-паша, до конца довольными не были. Сейчас оба они стояли в полукилометре от «Большой Берты» и наблюдали, как она изрыгает свои громадные снаряды, летящие в сторону русских позиций.
То-то и оно, что «в сторону», именно это удручало фон Гюзе и Киамиль-пашу. Говорить о точности стрельбы не приходилось, а раз так, то эффект от нее был более психологический, нежели разрушительный.
– Шуму много, – недовольно произнес Махмуд Киамиль-паша, – а вот много ли проку от такой стрельбы? Снаряды летят настолько далеко, что мы не можем проконтролировать результаты. Где они взрываются? Нам это неизвестно, мы стреляем почти наугад.
– Вынужден согласиться с вами, – мрачно отозвался Вильгельм. – Кроме того, каждый выстрел «Большой Берты» стоит денег. Весьма немалых денег! А деньги нужно тратить с умом. Конечно, если такой снаряд вдребезги разнесет, скажем, русский армейский нужник вместе со всем его содержимым, это не окупит даже сожженного пороха.
В очередной раз раздался громовой удар, под ногами собеседников вздрогнула земля. Еще один громадный снаряд, с воем разрывая воздух, помчался на север.
– Что вы, как мой начальник штаба, сделали для того, чтобы исправить ситуацию? – требовательным тоном спросил турецкий генерал. – Не могу же я сам заниматься этим вопросом. Аллах свидетель – у меня и без того хватает проблем!
Полковник фон Гюзе скрыл насмешливую улыбку: да, формально он подчиняется этому турецкому варвару, но если посмотреть в корень, то еще большой вопрос, кто из них принимает окончательные решения. В отношениях турецких военачальников и их немецких помощников и подчиненных весьма нередки были случаи, когда «хвост вилял собакой». По крайней мере здесь наблюдался как раз такой случай. Фон Гюзе считал подобное положение вещей справедливым: никакие пышные звания и ордена величиной с тарелку не заменят профессиональной военной выучки прусского образца.
– В расположение русской армии были направлены несколько лазутчиков. Увы, все они оказались растяпами и были задержаны казачьими разъездами.
– Досадно!
– Неизбежные издержки, – пожал плечами немец. – Последний из лазутчиков, самый опытный, отправлен в Сарыкомыш. Пока что он не вернулся, и никаких сведений о нем нет. Но, эфенди, думаю, что попадется и он. Я не слишком полагаюсь на лазутчиков, а армейская полевая контрразведка у русских налажена, надо отдать им должное, весьма неплохо.
Махмуд нахмурился: что же получается, ему докладывают о сплошных неудачах? И стрельба могучей гаубицы так и будет оказывать на русских по большей части лишь психологическое воздействие? Не этого он ожидал, когда давал согласие на предложение Вильгельма фон Гюзе об установке «Большой Берты»!
– Что лазутчики? Это лишь вспомогательные меры. Нам нужны точные карты русских позиций. И надеюсь, эфенди, вскоре у нас будут такие карты, которые вам и не снились! – уверенным тоном сказал немец, желая приободрить Киамиль-пашу.
– Каким образом, позвольте узнать? – Киамиль был заинтригован.
– Пусть это пока останется моим секретом. Не хочу испытывать судьбу и раньше времени посвящать вас в скучные подробности, – вот теперь фон Гюзе ясно давал понять турецкому генералу, кто есть кто. – Когда дело будет сделано, вы узнаете все детали.
Турок с мрачным видом кивнул. Он, конечно, понимал, что его вежливо поставили на место, но ссориться с немцем не захотел. Вильгельм фон Гюзе был слишком ценным специалистом, Махмуд нуждался в нем. Кроме того, пока что все хитроумные замыслы немца успешно претворялись в жизнь и давали отличный эффект. Было у Киамиль-паши, хитрого, как шакал, и еще одно соображение. Пусть Вильгельм фон Гюзе делает что хочет, пусть рискует своей репутацией и карьерой. Если он добьется успеха, то успех этот всегда можно будет разделить пополам или вовсе приписать себе. А если не добьется, то это будет только его провал. Вот так это будет выглядеть в глазах высшего турецкого командования. И немецкого, кстати, тоже.
– Допустим, что вам удастся достать карты, – сказал Махмуд. – Но ведь нужен еще и артиллерийский наблюдатель, который по второму комплекту карт должен корректировать огонь!
– Эта догадка делает честь вашему уму, генерал, – несколько высокомерно парировал фон Гюзе. – У нас будет такой наблюдатель. Да, в самом скором времени.
Вновь раздался громовой удар выстрела.
Командующему третьей турецкой армией никак не давала покоя еще одна мысль: засечь позицию громадной гаубицы не составит большого труда для разведки противника! «Большую Берту» не спрячешь от русских. И если они сумеют каким-либо образом уничтожить могучее орудие, это будет серьезным пятном на репутации генерала Махмуда. Помнится, фон Гюзе говорил, что у него в запасе есть психологический трюк, который обезопасит гаубицу от удара с воздуха?..
– Полковник, русские не дурачки! – сказал Киамиль-паша. – Они непременно пошлют сюда аэропланы!
– Пусть посылают, – рассмеялся немец. – Лишь бы до того момента до противника дошла кое-какая информация. Да, о том, что за объект располагается в непосредственной близости от нашей красотки. Впрочем, убедитесь сами, эфенди. Давайте подойдем, и вы увидите, как ловко я все организовал.
…Неподалеку от позиции, занимаемой исполинской гаубицей, был огорожен в два ряда столбами с натянутой колючей проволокой небольшой клочок земли, квадрат сто на сто метров. По коридорчику между столбов шагал охранник-турок с немецкой винтовкой «манлихер» за спиной. Внутри периметра виднелся голый плац, посреди которого стоял унылый одноэтажный барак, несколько хозяйственных построек.
– Прошу взглянуть! – довольным тоном произнес Вильгельм фон Гюзе. – Это временный лагерь русских военнопленных. А на какое время, прошу прощения за невольный каламбур, он сохранит этот статус, зависит только от нас. На такое, которое нам понадобится.
– Почему временный? – спросил генерал Махмуд. – Сколько их там?
– Немного, двадцать три человека. Тут вопрос не в количестве. А временный статус для того, чтобы избежать обвинений, что мы нарушаем Гаагские международные конвенции. Видите, там, внутри, все весьма аскетично… Организовано-то буквально за десять часов. Даже караульных вышек поставить не успели еще. Ничего, за вышками дело не станет, к завтрашнему дню мы их установим. Часовых добавим, организуем караул по всем правилам, никуда русские не денутся. Да, конечно, пленные испытывают некоторое неудобство от того, что буквально у них над головами грохочет наша «Большая Берта». Ничего не попишешь, – немец лицемерно вздохнул, – полевые условия. Нашим караульным тоже не позавидуешь!
Это уж точно, несчастный турок с винтовкой имел очень кислое выражение физиономии. Когда громадное орудие выстрелило вновь, он даже присел со страху! Несколько пленных русских офицеров, прохаживающихся по плацу лагеря, увидели это и весело рассмеялись. Нет, этих людей орудийный гром не пугал! Хотя неприятно, конечно…
– Нам-то с вами, эфенди, как раз и нужно, чтобы «Берта» грохотала именно над их головами, – по-лисьи улыбаясь, продолжил фон Гюзе. – В непосредственной близости. Противник не станет бомбить нашу гаубицу, чтобы по своим не попасть. Русские же поймут: сбросить бомбу настолько точно, чтобы угодить лишь по «Большой Берте» и не зацепить лагерь, – дело невозможное. А хотя бы у них и были такие иллюзии относительно искусства своих пилотов, это ничего не меняет. Попав в гаубицу бомбой, они вызовут детонацию боеприпасов. Но даже взрыва одного снаряда нашей красавицы хватит для того, чтобы от лагеря с его обитателями даже пыли не осталось.
– Что ж, – благосклонно откликнулся Киамиль-паша, – эта ваша идея относительно живого щита оч-чень недурна!
– Теперь дело за немногим, – фон Гюзе самодовольно усмехнулся. – Надо, чтобы информация о положении этого лагеря ушла к русским…
– И как это сделать?
Вильгельм фон Гюзе не ответил. Задумчиво покусывая нижнюю губу, немец смотрел на одного из тех русских офицеров, что смеялись над перепуганным турецким солдатиком. На того самого молодого штабс-капитана, который недавно так дерзко разговаривал с ним.
8
До прифронтового городка Сарыкомыша молодой великий князь Николай и Бестемьянов добрались из Тифлиса легко и без всяких неожиданных неприятностей, вроде встречи с бдительным тифлисским городовым. Николай до сих пор заливался краской стыда, вспоминая этот момент: ведь весь его план висел на волоске! Оттащил бы его городовой в участок, там полицейское начальство живо сообразило бы, кто попался к ним в руки. Юноша не сомневался в том, что семья и двор предпринимают отчаянные попытки вернуть его в Царское Село, не позволить ему идти путем настоящего мужчины и героя.
Вот и вернули бы! Как нашкодившего щенка! Ведь это какой бы был позор, бр-р-р… Подумать страшно! А если бы слухи о его поимке дошли до любимой?! Тогда в ее глазах он так и остался бы смешным мальчишкой, хвастуном и фанфароном, и ему оставалось бы только застрелиться от невыносимого стыда.
Великий князь как-то упустил из виду, что свести счеты с жизнью ему вряд ли позволили бы…
Но уберегли святые угодники, видать, божья воля способствует его замыслу! А чего бы ей, спрашивается, не способствовать?! Он же не просто так из Петербурга сорвался, он за веру, царя и Отечество драться хочет. Все дерутся, а он чем хуже? Мало ли что великий князь, что, великие князья патриотами быть не могут? Вон Верховный главнокомандующий всей русской армии тоже, между прочим, великий князь!
Молодец дядька Николаич, ловко сунул городовому бумажку! Зато теперь у них есть деньги, зато теперь до линии фронта осталось пяток верст. И тут уж все зависело от его настойчивости, храбрости, ума и воли. Только они могли принести успех – да еще немного удачи.
…Вот такие примерно мысли роились в голове юного храбреца и героя. В свою удачу Николенька верил безгранично, что до выдающихся личных качеств, вроде ума, храбрости и прочего, то и тут сомнений не возникало! Любимая еще оценит его по заслугам!
Нет, Николенька вовсе не был самовлюбленным болваном, он просто был очень молод. В юности психически нормальный человек всегда несет заряд органического, природного оптимизма и самоуверенности. Жизнь воспринимается в приподнято-романтическом духе: молодому человеку кажется, что впереди его ждут захватывающие приключения, грандиозные события, подвиги и великие свершения, неземная любовь… А также многое другое в том же радостно-телячьем духе. И лишь приобретя некоторый печальный опыт, неоднократно приложившись на жизненном пиру физиономией об стол, он с грустью начинает осознавать, что перемены к лучшему – скорее исключение, чем правило. Только часто бывает поздно!
Документы у Николая были отличные, как уж он их достал – дело темное, но все же юноша был членом императорской фамилии, в деньгах не нуждался и возможностями располагал соответствующими своему статусу. Из документов следовало, что он уже окончил университет и, стало быть, несмотря на юный возраст, является прапорщиком запаса. Ну вот, в патриотическом, надо понимать, порыве, не дожидаясь призыва, решил добровольно послужить царю и Отечеству. Для чего и явился лично на русско-турецкий фронт: располагайте мной, господа военачальники!
Ясное дело, что, заполучив такого лихого вояку, «господа военачальники», например генералы Юденич и Огановский, в пляс от радости пустятся…
Самое любопытное заключалось в том, что авантюрный план юноши имел неплохие шансы на успех! Нет, что касается героического спасения из плена брата возлюбленной, штабс-капитана Левченко, то это навряд ли, не по плечу задача. Но вот относительно того, чтобы попасть в действующую армию и лично принять участие в боях… Отчего бы и нет? Вполне могла сбыться эта мечта Николеньки.
Хлебнув воздуха свободы, избавившись от опеки своих высочайших родственников и министра Двора Фредерикса, Николай за короткое время сильно изменился. И, надо сказать, дядьке Петру Бестемьянову не слишком нравились эти перемены.
Его питомец словно бы ошалел. Юноша, вчерашний мальчик, он почувствовал себя мужчиной. Великий князь и без того отличался упрямством и неуступчивостью, уж если ему в голову приходила какая-то идея, считал, что, кровь из носу, должен довести дело до конца. А теперь он и вовсе закусил удила: никаких резонов не признавал, никаких возражений и увещеваний Петра Николаевича слушать не желал! Но ведь Бестемьянов согласился помогать своему любимцу лишь из-за того, что был уверен: тот удерет и в одиночку, не удержишь такого, разве что в крепость посадить. Так лучше пусть рядом будет опытный и надежный, бесконечно преданный слуга, который всегда поможет советом. То есть он – Петр Николаевич Бестемьянов.
И вот сейчас Бестемьянов начинал горько сожалеть о своем решении. Может, впрямь лучше было бы в крепость? Но и выдать своего молодого хозяина военным либо гражданским властям старый дядька не мог, такое предательство было выше его сил. Приходилось только за голову хвататься да стараться из последних сил удержать чадо неразумное от совсем уж опрометчивых поступков. Получалось не слишком успешно.
Вот и сегодня, добравшись до прифронтового Сарыкомыша, перед тем как отдавать себя в распоряжение «господ военачальников», юный великий князь решил гульнуть напоследок. А чего тут такого?! Мужчина он, в конце концов, или нет?! Воин или кто?! Герой или как?! Именно что воин и герой, правда, лишь в будущем, но ведь совсем недалеком!
Деньги, хвала небесам, имеются. Так что устроим прощальную пирушку во славу Родины и любимой женщины, что осталась в далеком Петрограде!
Очень не по душе дядьке Бестемьянову была эта мысль, но он знал, что от своего Николенька не отступит. Без толку отговаривать, только время терять.
…Духан, где решил гульнуть Николенька, располагался в полуподвале на одной из кривых улочек Сарыкомыша. Городок этот был многонациональным, пестрым, шумным и чуточку по-хорошему бестолковым. Его улицы слышали речь на многих языках, но преобладали все-таки русский и грузинский. В позднем огне заката городишко этот показался Николеньке очень живописным и романтичным донельзя. Бестемьянов к местным красотам и экзотике оставался совершенно равнодушен, видал отставной унтер города и похуже.