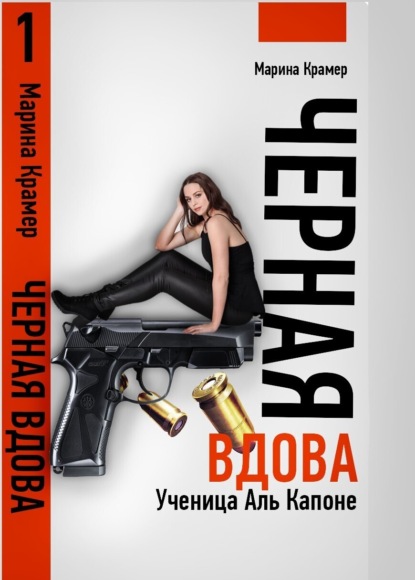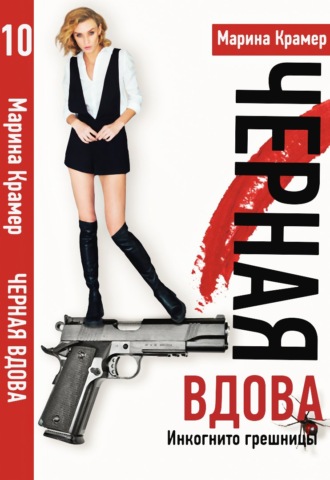
Полная версия
Инкогнито грешницы, или Небесное правосудие
– Если тебе нечего мне сказать, давай прощаться.
– Ты… ты не могла бы приехать? – вдруг нерешительным тоном прошелестела Ветка.
– Что?
– Ты не могла бы… приехать ко мне? – повторила она. – Я совсем одна, мне страшно… и на меня тоже, кажется, кто-то охотится…
– У тебя полно охраны, дорогая, – автоматически отбилась Марина, подумав про себя, что подозрения, скорее всего, оказались ошибочными – иначе Виола побоялась бы звать ее к себе. Потому что дотошная Коваль непременно докопалась бы до сути.
Ветка вдруг заплакала. Рыдала она долго, отчаянно и как-то совсем обреченно, и Марине в какой-то момент стало жаль ее. Если Ветка непричастна к покушению, то кто поручится за то, что и на нее, в самом-то деле, не ведется охота? Она много знала о делах мужа, а, кроме того, обладая некоторыми способностями, довольно часто «потрошила» Гришку помимо его воли, исподволь выпытывая у того кое-какие подробности. И именно это ее умение могло стать довольно опасным – никто не мог поручиться, что таким же образом Виола не влезала в тайную жизнь и других людей. Марина по себе знала, как она умеет это делать.
– Вета… – уже чуть мягче проговорила Коваль. – Не плачь. Мне кажется, тебе нечего бояться…
– Нечего? – переспросила она и вдруг рассмеялась каким-то странным смехом, напоминавшим смех умалишенной, – ясным, звонким и заливистым: – Конечно, Мэриэнн! Мне ничего не угрожает, ты права! И мой мертвый водитель за рулем машины, и простреленные колеса – нет, конечно, ко мне это не имеет ни малейшего отношения! Меня не было всего час, я как раз к Гришке приехала. Так что ты права! С днем рождения, Мэриэнн… – трубка замолчала.
Коваль отвела ее от уха и недоуменно посмотрела на потухший уже дисплей.
– Однако… – протянула она, до конца еще не осознав всего, что сказала Ветка.
– Мэм, мы приехали, – тактично проговорил водитель, и Коваль очнулась.
– О, простите…
Расплатившись, она вышла из такси и с удивлением обнаружила: света в окнах нет, хотя уже слегка стемнело. Но что потрясло ее еще сильнее, так это собственная реакция на сей факт – она испытала нечто похожее на облегчение. «Его нет дома», – и от этого вдруг стало легко…
– Наверное, мне действительно стоит уехать… – пробормотала Марина, поднимаясь на крыльцо и вставляя ключ в замок.
Хохол просидел в пабе до вечера, но все предложения приятеля-бармена «пропустить стакашку-другую» решительно отверг. Выпить хотелось, но он боялся последствий. Боялся момента возвращения домой. Он знал, что, увидев Марину, может не сдержаться и дать волю разрывавшей его душу боли. Конечно, Коваль не удивилась бы, молча стерпела бы любые побои – но что потом? Потом, как всегда, ему было бы стыдно и невозможно поднять глаза, взглянуть ей в лицо, встретиться взглядом, уловить презрение и жалость. Да, вот это было хуже всего – жалость во взгляде Марины. Она жалела его – сильного мужика, опустившегося до слабости ударить женщину. Потом ему придется вымаливать прощение – не потому, что она будет непреклонна, а потому, что так уж повелось, и он сам установил такие правила игры. Сегодня же Хохол просто не был готов следовать привычному сценарию.
На плечо легла женская рука, и он обернулся, окинул взглядом невысокую плотную деваху с простоватым личиком и круглыми карими глазами. Весь ее вид недвусмысленно свидетельствовал о роде занятий, но Женька даже помыслить не мог о том, чтобы клюнуть на зазывный взгляд. Он отрицательно покачал головой, и девица отошла, бормотнув что-то по-английски. «Послала, наверное», – отрешенно подумал Хохол и полез в карман, желая рассчитаться за кофе, которого успел выпить огромное количество. Бармен отсчитал нужную сумму и не взял чаевых – как, впрочем, и всегда. Он считал, что «обдирать» соотечественника, пусть и бывшего, дело последнее.
– Тут и без тебя есть, кому на чай отвалить, так что не парься, – пояснил он свой отказ как-то раньше, и теперь Хохол уже не удивлялся, хотя автоматически выкладывал на стойку сумму, превышавшую счет.
Уже стемнело, зажглись фонари, а на припаркованном у паба джипе тонким покрывалом лег снег. Хохол вынул щетку и смахнул белую пыльцу с лобового стекла. Нужно было ехать домой, но внутри все тоскливо ныло и сопротивлялось.
«Как же так? – думал Женька, положив голову на скрещенные на руле руки. – Как мы допустили такое? Я же чувствую, и она не хочет меня видеть, раздражается, нервничает. С какого момента все пошло не так? Когда мы вдруг успели настолько отдалиться друг от друга? Ведь я люблю ее… Я никого не любил так, как ее, ни с кем не был так близок. Почему она не видит? Или это все-таки я виноват? Может быть, нельзя так распластываться? Нужно включать мужика и орать, настаивая на своем? Но не с ней, не с Маринкой. С кем угодно – а с ней нельзя. Где и когда я ошибся?»
Время неумолимо приближалось к одиннадцати, нужно было ехать домой, и Хохол, тяжело вздохнув, повернул ключ в замке зажигания.
Урал
Виола сидела в мягком кресле, забравшись с ногами и укутавшись в белый вязаный плед. На столике перед ней стояла бутылка водки и рюмка, на блюдцах – кое-как нарезанный огурец и соленые грузди, чуть сбрызнутые сметаной. В пепельнице дымилась сигара.
Мысли роились в голове, но что-то главное так и ускользало, и от этого Виола злилась. Она никак не могла ухватить суть, перебирая в памяти фразу за фразой из своего разговора с Коваль. Она так и не могла понять, всерьез ли Марина подозревала ее в том, что это с ее подачи Бес лежит теперь в реанимации, или это просто была обычная чуть насмешливая манера Коваль разговаривать и одновременно прощупывать почву. Но Виола признавала: сама дала подруге повод считать так. Кто дернул ее за язык тогда, чуть более полугода назад, во время их последней встречи? Зачем она попыталась втянуть Марину в свои разборки с мужем? Ведь знала – Коваль никогда не станет делать того, что не посчитает оправданным.
Виола налила очередную порцию водки и опрокинула в рот. В последнее время крепкое спиртное совершенно «не забирало», и она никак не могла определить причину. Хорошо, что сын до сих пор в реабилитационном центре, он хотя бы не видит, в каком состоянии находится мать. Ветка стыдилась выпивать при ребенке – все-таки Алешка уже не был малышом, все понимал, и потому видеть в его глазах недетскую тревогу и тоску становилось просто невыносимо. Она скрыла от него случившееся с Бесом – к чему и без того нездоровому мальчику такое потрясение?
Виола вдруг почувствовала такое отчаянное одиночество, от которого невозможно было спрятаться куда-то. Ей был необходим близкий человек рядом, и этим человеком могла стать только Марина. Марина, которую она предала в пьяном бреду, пытаясь спасти собственную шкурку. К ее удивлению, Коваль отреагировала на это совершенно нехарактерно для себя. Просто отрезала все общение – и не больше.
И вот сегодня Ветка набралась храбрости… Да что там храбрости, у нее просто не осталось иного выхода, и именно отчаяние и одиночество заставили ее позвонить Марине даже с риском, что та не ответит. Но Коваль сняла трубку и поговорила с ней, и теперь у Виолы зашевелилась надежда: а вдруг подруга не бросит ее, приедет, поможет. Теперь Коваль уж совсем нечего опасаться – внешность ее абсолютно далека от того, что, возможно, кто-то мог еще вспомнить, а тех, кто знал ее в новом образе, всего двое – она, Ветка, и Мишка Ворон, который уж точно не продаст свою «напарницу». Телохранитель Никита, бывший в курсе, погиб, а Гена уехал в Англию и живет теперь недалеко от Хохла и Коваль. Гришка же в коме, но даже если бы это было не так – он ни за что не узнал бы свою родственницу.
– Хоть бы ты приехала, дорогая… – прошептала Ветка, слизывая слезы с губ. – Ты так нужна мне…
Она встала, не заметив, как белый плед упал на пол, и, пошатываясь, пошла в кабинет Беса. Усевшись за компьютер, ввела пароль в свой почтовый ящик и тут же получила оповещение о новом письме. Адрес оказался незнаком, но у Виолы даже не шевельнулась мысль о том, что такие письма могут содержать все что угодно. Щелкнув «открыть», она в испуге отпрянула – на экране возникла ее собственная фотография с выколотыми глазами и пририсованной веревкой на шее…
Бристоль
Марина лежала в темной спальне и смотрела в потолок. Вечер она провела с Грегори – мальчик, хоть и расстроился, заметив отсутствие Женьки за ужином, вида все-таки не подал, стараясь не портить матери день рождения. Они поужинали вдвоем, потом Марина проверила домашнее задание, с удовольствием выслушала рассказ сына о том, как прошел день в школе, вместе с Грегом убрала кухню и загрузила посуду в машину. Обычно такие хозяйственные мелочи ложились на плечи ее мужчин – те старались оградить Марину от бытовых забот, но сегодня Хохла не было, а Грегу хотелось материнского внимания. Коваль видела, как мальчик сдерживается, чтобы не задать вопрос об отсутствии Женьки, и была благодарна сыну за тактичность.
– Мамуля, ты сегодня такая красивая, – обнимая ее за талию, проговорил сын.
– Только сегодня? – усмехнулась она, поглаживая его по темно-русым волосам.
– Нет, ты всегда красивая. Просто… я не мог привыкнуть к тому, что у тебя лицо теперь совсем другое… – признался Грегори, глядя ей в глаза. – Мне иногда было даже страшновато – голос твой, а лицо-то совсем чужое. Но потом я привык.
Коваль с трудом подавила покаянный вздох – сколько же пришлось вынести ребенку, к каким недетским выводам прийти, что пережить. А она уже опять думает о том, как бы уехать. И как объяснить ему причину?
– Мам, а где папа? – все-таки не выдержал Грегори, и Марина вздрогнула.
– Не знаю. Наверное, у него дела какие-то.
– Дела? В твой день рождения? – враждебно переспросил сын. – А ты из-за него лицо переделала! Из-за него! А он даже в твой день рождения – дела, дела!
– Грег! – предостерегающе проговорила Марина. – Я тебя просила.
– Да, просила. Извини, мамуля, – и он вдруг уткнулся лицом ей в живот, стараясь не показать, что вот-вот заплачет.
Внезапно Грегори резко оттолкнулся от нее и бросился бежать из кухни. Марина не сделала попытки догнать или вернуть сына – понимала: ему необходимо поплакать, а сделать это при ней он ни за что себе не позволит.
Когда через полчаса она поднялась в комнату Грега, чтобы пожелать ему спокойной ночи, то наткнулась на висящую табличку: «Не беспокоить» и дорожный знак «Въезд запрещен». В их семье было принято уважать право другого на собственное пространство и на уединение в нем, потому Марина не стала стучать или входить. Но на сердце стало совсем уж паршиво…
Сейчас она лежала в постели и напряженно перебирала в голове все мозаичные кусочки сегодняшнего дня. Нет, Коваль не ждала праздника – собственные дни рождения она уже давно предпочла бы не отмечать, но Хохол настаивал. Но и подобного отношения от него, в общем-то, тоже не хотела. Марина понимала и признавала собственную вину в размолвке – уж что-что, а чувство справедливости ей не изменяло, когда дело касалось Женьки. Не стоило снова давить ему на больную мозоль и разговаривать свысока. Но ведь и он, по сути, вспылил из-за пустяка. Возможно, просто искал повода… И вот эта мысль была самой неприятной.
Его шаги она услышала сразу, едва только он ступил на первую ступеньку лестницы, и напряглась, внезапно разозлившись на себя за это ощущение: «Веду себя как баба, которую лупит пьяный муж!» Хотя – да, лупил, но Коваль никогда не воспринимала это всерьез – просто потому, что видела – он делает это от бессилия, унижает себя, топчет, потом раскаивается и казнится еще сильнее.
Хохол возник в дверях – высокий, широкоплечий, с коротким «ежиком» выбеленных волос. Марина села, прислонившись к спинке кровати, но свет так и не зажгла, хотя шнурок бра висел над ее плечом. Женька стоял в дверном проеме, точно не мог решить – войти или нет. Оба молчали.
– Мне уйти? – не выдержал Хохол.
– Это и твой дом тоже, – негромко отозвалась Марина, обхватив себя за плечи.
– То есть тебе все равно – уйду я или останусь? – уточнил он.
– Угадал.
Хохол оттолкнулся от косяка и шагнул к кровати, сел на край и ссутулился вмиг, как будто сбросил тяжелый груз и неимоверно устал. Протянув руку, он ухватил Марину за запястье и дернул к себе.
– Хорошо, что я всегда угадываю, чего именно ты хочешь… На колени, сука, быстро!
Коваль, прокатившись по шелковой простыне, упала на пол и медленно поднялась на колени. Свободной рукой Хохол сгреб ее за волосы и притянул голову к поясу джинсов.
– Что замерла? Забыла, как бывает?
Она не забыла… в чем и убедила его буквально через пару минут, когда Женька, уже стократ пожалевший о своей вспышке ярости, хрипел, запрокинув назад голову.
– Да-а… су-у-ука-а-а… я же люблю… люблю тебя…
Коваль выпустила его и молча легла на кровать, отвернувшись к окну. Хохол со стоном упал рядом, тяжело дыша и отфыркиваясь.
– Котенок… прости меня, любимая, – он погладил ее по спине, но Марина осталась неподвижной и все так же молчала. – Мариш… ну, что ты, родная? Я обидел тебя? Ты же любишь такое… Ну, прости, переиграл…
Она внезапно резко села, испугав Женьку такой прытью.
– Ты не часто стал переигрывать? Хренов актер одной хреновой роли!
Хохол не мог понять, что происходит. В последнее время не так уж часто он позволял себе подобные выходки, которые – и он прекрасно знал это – заводили и саму Марину. Так что сейчас она была несправедлива.
– Мариш… да что я не так сделал-то?
Она смотрела на него широко распахнутыми глазами и тяжело дышала. Даже себе Марина не могла сейчас объяснить вспышку гнева – все было, как обычно, даже лучше, и грубость Хохла – не показная, а настоящая, животная, такая, как ей нравилась, – была искренней, а потому особенно острой. Но что-то в ее голове не давало расслабиться и получить удовольствие от произошедшего, продолжить начатую игру, довести ее до финала. Что-то вдруг с треском сломалось в идеальном механизме под названием «Коваль».
Она обхватила колени руками и уткнулась в них лбом. Женька, совершенно обескураженный ее вспышкой ярости и странным поведением, приподнялся и обнял ее за плечи, привлек к себе, легко преодолев сопротивление:
– Ну, что с тобой, котенок? Плохо тебе?
Марина вдруг всхлипнула, развернулась и обхватила его руками за шею.
– Женька… Женечка, ну, что мне делать? Что делать, скажи? Это не мне плохо – это тебе плохо со мной.
– Да, потому-то я и живу с тобой столько лет – что так мне плохо, – усаживая Марину к себе на колени и крепко прижимая к себе, усмехнулся Хохол. – Ну, что ты маешься опять, девочка моя? Что тебя так жрет?
Она подняла глаза и сказала медленно и четко:
– Мы с тобой сейчас, как два поезда на разъезде – стоим до сигнала диспетчера. Как велит – так и поедем, можем в одну сторону, а можем – в разные. Неужели ты не чувствуешь?
Хохол растерялся. Ему показалось, кровать под ним пошатнулась и вот-вот упадет. Он крепче прижал Марину к себе, как будто боялся, что она вдруг исчезнет, и пробормотал:
– Ты… что говоришь-то, а? Слышишь себя?
– Слышу. А разве ты не думаешь так? Разве ты сегодня не явился домой только к ночи потому, что готов был где угодно болтаться, только меня не видеть? Вот не ври сейчас и не говори того, что, по-твоему, я хотела бы услышать. Скажи так, как есть.
Женька понял вдруг – шутки кончились. Марина завела этот разговор неспроста, за ним непременно что-то кроется. И дело вовсе не в его насилии над ней…
Захотелось закурить, но он боялся отпустить ее, боялся, что больше уже не сможет удержать рядом, потеряет навсегда.
– Маринка… – хрипло вывернул он. – Что ж ты со мной делаешь-то? Зачем? Я жить не могу без тебя, я душу готов прозакладывать – а ты…
– А я хотя бы раз в жизни хочу поговорить честно. У меня, наверное, просто кризис какой-то. Ты думаешь, я тебя не люблю? Люблю. И ты это знаешь. Но, Женька, понимаешь, что-то не так идет, – Марина развернулась и села лицом к Хохлу. Тот машинально подхватил ее под спину, как делал во время занятий любовью, но потом опомнился и помрачнел. – Ну, не так! Не так, как раньше было. Может, мы просто стали старше…
– Маринка, тормози, я прошу тебя! – взмолился Хохол, но она упрямо продолжала:
– Неужели ты не понимаешь? Ну, как ты не чувствуешь? Я же просто в голос кричу – удержи меня рядом, не отпускай, сделай что-то! Так сделай, чтобы я только тебя видела, только тебя – чтобы все вокруг исчезло. Это только от тебя зависит!
Она вырвалась из его рук и отошла к окну, отдернула тонкую занавеску и взяла с подоконника пачку сигарет. Закурив, открыла форточку и впустила в комнату холодный воздух. Занавеска мгновенно надулась парусом, окутав Коваль, как плащом.
– Вот в этот момент все решится, сейчас – ни позже, ни раньше, – ровным голосом проговорила Марина, стоя спиной к замершему на краю кровати Хохлу. – И от твоего слова зависит, как все пойдет. Я хочу, чтобы ты был мужиком и сам решил. Я уйду или останусь. Как скажешь.
Она замолчала, но кожей чувствовала напряжение, охватившее Хохла, почти физически ощущала боль, которую причинила ему словами. И ей самой было больно от них, но тянуть дальше – Марина чувствовала это – уже невозможно. Ей было немного совестно только за одну маленькую деталь – она ничего не сказала Хохлу о звонке Ветки. Собственно, как и о звонке Ворона тоже. Возможно, и разговор этот она, сама того до конца еще не осознав и не признав, затеяла как раз для того, чтобы иметь повод уехать в Россию.
Хохол медленно поднялся с кровати и пошел к выходу. В дверях задержался и вдруг с размаху ударил кулаком в наличник двери. Раздался треск, и деревянная пластина развалилась, отскочив от стены. Марина вздрогнула, но осталась на месте, а Хохол, мельком взглянув на разбитые костяшки пальцев, ушел вниз.
Марина не могла уснуть, то ложилась, укрывшись с головой одеялом, то снова вставала и шла к окну, закуривала очередную сигарету и всматривалась в зимние сумерки, как будто надеялась увидеть там свое будущее. Хохол находился где-то в доме, но его не было слышно – не работал телевизор в гостиной, никто не ходил, не издавал никаких звуков. Марина чувствовала, как ноет сердце, как оно напряженно бьется в груди и не дает возможности лечь и уснуть. Да и сна не было. Стоило закрыть глаза, как тут же, словно на экране, возникали образы прошлого. Хохол, тогда еще довольно молодой, сильный и звероподобный, сидит на корточках у бассейна, в котором плавает обнаженная по пояс Марина. Вот она выпрыгивает из воды, хватается за его мощную шею и опрокидывает в бассейн. Женька, отфыркиваясь, старается удержать ее – и боится прикоснуться, потому что – нельзя, это тело принадлежит Егору Малышеву, только он имеет право. И кто такой Жека Хохол – простой охранник «смотрящего» Сереги Строгача, и не по чину ему прикасаться к самой Наковальне. А она провоцирует, дразнит – и добивается своего, и вот они уже в ее номере, и Хохол совсем потерял страх, голову и инстинкт самосохранения – он упивается каждым прикосновением, каждым вздохом этой женщины, покорно изгибающейся в его ручищах, выполняющей все, что только подсказывает ему фантазия. Марина и сейчас помнила ту их первую ночь вместе, когда к утру не могла пошевелиться, не могла разговаривать, ничего больше не хотела. Но именно в тот момент она ухитрилась забрать Хохла целиком в свои руки, подчинить его себе, сделать ручной домашней собачонкой. И именно это потом помогло ей выжить – потому что Женька уже не мог помыслить жизни без нее, не мог позволить пьяному Строгачу прикоснуться к ней, не мог спокойно вытерпеть оскорбления его чувства к этой женщине. Он сделал немыслимое – привезя ее домой, опустился на колени перед Малышом и просил только одного – позволить быть рядом с Мариной. Егор согласился – и потом, вероятно, сто раз пожалел об этом, хотя ни разу не сказал вслух. Женька лез вон из кожи, чтобы с ней ничего не случилось, прикрывал собой, прятал, увозил, покорно ждал, когда она уезжала к любовнику – кто еще способен был вынести такие издевательства? Он любил ее – и только этим объяснял все. А она сейчас предавала его любовь, малодушно устроив скандал на ровном месте.
Собственная черствость давно уже не приводила Марину в ужас – она привыкла к себе, такой, и спокойно жила в ладу с собой. Но именно сейчас почему-то стало очень обидно за Хохла, вынужденного стать единственной жертвой тяжелого Марининого характера и чудовищного эгоцентризма и эгоизма.
Она накинула халат и пошла вниз. Обычно во время ссор Женька уединялся в маленькой комнатке под лестницей – там стоял диван и небольшое кресло. Егор, когда проектировал дом, планировал эту комнатку как место, где может оставлять свои вещи домработница. Но Сара не жила здесь, приходила раз в два дня, а потому ей комната не была нужна. Женька же и раньше, в России, уединялся в подобном помещении, когда был уже не в состоянии видеть Марину и сносить ее капризы. Так было и сегодня. Из-под двери в коридор пробивалась узкая полоска тусклого света от небольшого бра над диваном. Марина постучала и, не дождавшись ответа, толкнула дверь, и вошла. Хохол полулежал на диване, закинув руки за голову. На полу красовалась полная окурков пепельница, небольшое окошко почти под самым потолком было открыто, и в комнатке стоял невыносимый холод, но Женька этого не замечал. Он смотрел в потолок и не переменил позы при появлении Марины. Она прошла к дивану, села на край и положила узкую ладонь на обнаженную грудь мужа, покрытую татуировкой и шрамами от ранений.
– Женя…
– Зачем пришла? – не меняя позы и не глядя на Коваль, хрипло спросил Хохол.
– Я…
– Ты поставила мне условие – ну, так теперь жди, что я решу. И не бегай сюда, не тереби меня.
– Ты меня гонишь?
– Нет. Это ты гонишь – и не меня, не себя. Просто гонишь – и все. Даже не думая, какую боль причиняют твои слова кому-то. Мне, например. Что тебе опять неладно, Коваль? Чем я на этот раз не угодил? Отодрал не так? Ну, скажи – исправим.
Марина вспыхнула, хотела размахнуться и дать ему пощечину, но потом вдруг осеклась, поняв: на этот раз может получить в ответ. Что-то в тоне Хохла ясно об этом сказало…
– Женя… зачем ты так? Разве дело в этом? – она спрятала лицо на его груди и обхватила мощный торс руками. – Мне трудно, понимаешь? Я не понимаю, чего хочу, как жить дальше. А ты вместо помощи устраиваешь мне игры в молчанку.
– А я не психоаналитик. Я – зэк бывший, мне ваши душевные тонкости до одного места, – ровным голосом проговорил он. – Ты для себя реши – нужен тебе кто-то или нет. А то я вот вижу, что мы с Грегом тебе только обуза, помеха. Вот и рвешься ты на части – вроде как надо быть женой и матерью, а душа-то другого просит.
– Ты что говоришь-то?! Как можешь?!
– А вот как вижу, так и говорю. Что – не по вкусу? Не-ет, ты уж послушай, дорогая, сама хотела.
Хохол сел, придерживая, однако, Коваль, чтобы не соскользнула, не расцепила руки, устроил ее у себя на коленях, набросил на спину плед и продолжил:
– Ты несколько лет старалась играть роль, которая тебе не по характеру, Маринка. Это как жить в коже чужого размера – или съежиться до нужного, или распрямиться и разорвать. Ну, ты съежиться не умеешь, стать не та – вот и разрываешь, потому что терпеть тесноту уже сил нет. Ну, другая ты, не такая, как все – что ж мне тебя за это – убить? Не умеешь ты быть женой, матерью – хотя и неплохо у тебя это выходит, чего уж. Но тебе самой в этом некомфортно, тяжко. Ты мучаешься, нас мучаешь. Всем плохо. Ну, что я должен сделать, как решить? Иди, поживи одна. Без нас. Тебе так будет легче.
Марина отпрянула от него, оттолкнулась руками от груди.
– Ты что?!
– А что? – спокойно переспросил Хохол. – Не нравится? Ты ж этого хотела – свободы. Так на, бери. Пользуйся.
– А… вы? Ты, Грег?
– А мы не пропадем. Ты просто знай, мы у тебя всегда есть и будем. И если тебе станет невмоготу – у тебя есть дом, куда ты можешь вернуться и где тебя всегда будут ждать. Всегда. И я, и Грег.
Марина заплакала. Она не могла понять, что происходит с ней, почему она так упорно стремится остаться одна, зачем ей это одиночество. И в чем виноваты муж и сын. У нее не было людей ближе, чем Женька и Грег, но даже их она ухитрялась обижать и отталкивать. Ладно, Хохол – мужик, он поймет, уже понял – но Грег? Как объяснить ребенку эти вот материнские «терзания» и поиски себя? Как он воспримет очередной отъезд? Все это давило на Марину с такой силой, что ей казалось – еще минута, и она просто расплющится от этого невыносимого давления. И вот это христианское всепрощение и понимание Хохла оказалось дополнительным источником давления. Лучше бы он кричал, бесновался или ударил ее – чем вот этот ровный тон, простые и доходчивые фразы и готовность сидеть и ждать, когда же неугомонная супруга наиграется и вернется домой. Лучше бы он ударил ее, чем это…
– Ну, что ты себе так сердце рвешь, скажи? – поглаживая ее по голове, проговорил Женька. – Разве я тебя в чем-то обвиняю? Нет же. Ты просто другая, котенок, не можешь ты просто жить, не умеешь. Тебе трудно. А я хочу, чтобы было легко. Всю жизнь свою стремлюсь к тому, чтобы тебе было хорошо – а выходит, не сумел. И ты мучаешься рядом со мной. Знаешь, Маринка… если хочешь, давай разведемся.