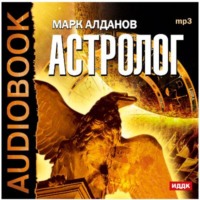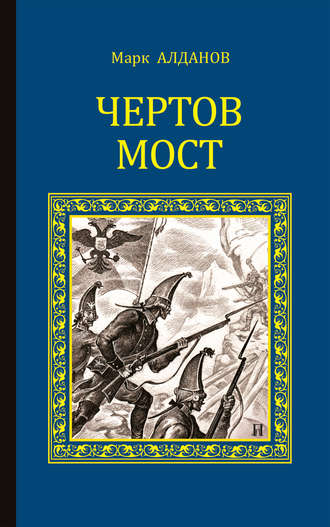
Полная версия
Чертов мост

Марк Алданов
Чертов мост
© ООО «Издательство «Вече», 2013
Об авторе
Прозаик, публицист и философ Марк Алданов принадлежит к числу наиболее интересных и очень плодовитых писателей первой послереволюционной волны русской эмиграции. Марк Александрович Ландау (такова настоящая фамилия писателя) родился 26 октября (7 ноября) 1886 г. в Киеве, в семье богатого и хорошо образованного сахарозаводчика Александра Марковича Ландау. Учился маленький Марк в классической гимназии, а по ее окончании – в Киевском университете, причем сразу на двух факультетах: физико-математическом и юридическом. Страстью молодого М. Ландау была химия. Этой науке он посвящал много времени. Доходы семьи позволяли отправить молодого человека в Европу. Во время этих странствий Марк увлекся европейской историей, познакомился со многими интересными людьми, с политиками и даже с государственными деятелями. Побывал он и в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
После начала Первой мировой войны М. А. Ландау вернулся в Россию, работал по специальности химика, публиковал статьи в профессиональных журналах; одновременно он начал работать над двухтомным литературно-критическим трудом «Толстой и Роллан». Будущий писатель любил сочинения Льва Толстого и преклонялся перед его гением. В 1915 г. была готова первая часть книги, посвященная как раз Толстому. Рукопись второй части погибла в годы Гражданской войны, и к ней Алданов больше не возвращался, тогда как первый том впоследствии переработал в книгу «Загадка Толстого». В 1917–1918 гг. Марк Алданов пишет книгу диалогов на общественно-политические и философские темы, которую символически называет «Армагеддон». С той поры битва Сил Добра и Сил Зла стала основным мотивом творчества писателя, причем Злом, по крайней мере, в отношении России, Алданов считал революционеров, какого бы оттенка ни были их убеждения. Не приняв русскую революцию, он воспользовался первым удобным случаем и эмигрировал. Еще в 1918 г., будучи секретарем Союза возрождения России, объехал ряд европейских столиц, пытаясь получить реальную помощь для борьбы с большевиками. Кажется, это было единственное политическое деяние Алданова в эмиграции, если, конечно, не считать его работы как публициста в газетах «Дни» (Берлин), «Последние новости» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк) и других. С конца 1920-х гг. М. Алданов состоял в рядах нескольких масонских лож и достиг высоких степеней масонской иерархии. Писатель не отказывался и от своего увлечения химией, выпустив в 1937 и в 1951 гг. серьезные монографии по химии, получившие положительную оценку ученого сообщества. Но основные силы Алданов отдавал написанию исторических романов – поприщу, на котором он добился недюжинного успеха. Первой его заметной работой в этом направлении стала тетралогия «Мыслитель» (1921–1927), посвященная тридцатилетнему отрезку французской истории от Великой революции до окончания Наполеоновских войн: «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров». Затем последовала трилогия о Первой мировой войне и русской эмиграции: «Ключ», «Бегство», «Пещера». Для исторических романов М. Алданова характерны сложно построенный сюжет и яркие, образные характеристики действующих лиц, в том числе – реальных исторических персонажей.
Годы Второй мировой войны Алданов провел за океаном, в США, где создал одно из лучших своих произведений – роман «Истоки», посвященный революционному движению 1870-х гг. (опубликован в 1950 г.). После войны писатель вернулся во Францию, где несколько лет работал над «Повестью о смерти» (1953), посвященной последним годам жизни Оноре де Бальзака. Эту книгу писатель считал одним из самых значительных своих произведений. Нельзя не отметить книгу «Ульмская ночь. Философия случая» – крупную философскую работу М. Алданова, вышедшую в том же 1953 г. В этой работе автор опровергает идею о прогрессивном движении истории, одновременно отрицая историческую предсказуемость общественных явлений. Алданов был знаком и поддерживал тесные отношения с И. Буниным, В. Ходасевичем, В. Набоковым и другими видными деятелями российской эмиграции. Умер Марк Александрович 25 февраля 1957 г. в Ницце. Его книги пришли в Россию (тогда еще – СССР) через три десятилетия. Произведения Алданова стали открытием для отечественного читателя, и, надо сказать, приятным открытием. Первое советское собрание сочинений писателя вышло в 1990 г.
Анатолий МосквинИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ МАРКА АЛДАНОВА:«Святая Елена, маленький остров» (1921)
«Девятое термидора» (1923)
«Чертов мост» (1925)
«Заговор» (1927)
«Ключ» (1929)
«Бегство» (1932)
«Пещера» (1936)
«Начало конца» (1938)
«Истоки» (1950)
Часть первая
1
Поручик Юлий Штааль вошел в кордегардию и расположился на дежурство. Отстегнул шпагу, хоть это не полагалось, и положил ее на табурет, потянулся, зевнул. Подошел к окну – за окном не было ничего интересного, поискал глазами зеркало – зеркала в кордегардии не имелось. Уселся поудобнее в жесткое кресло с изодранной ситцевой обшивкой, из-под которой лезло что-то серое, грязное, и расстегнул мундир, подбитый не саржею, а полусукном: поручик был одет по моде; под мундиром носил жилет, шитый по канифасу разноцветными шелками; а рубашка на нем была английская шемиза в узенькую полоску, с тремя пуговицами.
Вынул из кармана тетрадки газет и начал читать с объявлений: «По Сергиевской под нумером 1617 продается серой попугай, который говорит по-русски и по-французски и хохочет, а также глазетовая с собольей опушкой епанечка за 170 рублей…» – Дорого… «В Бецковом доме отдаются покои для дворянства, с драгоценными мебелями, без клопов и протчих насекомых…» – Не требуется… То есть, пожалуй, и требуется, да не по карману… «Некоторой слепой желает определиться в господский дом для рассказывания давних былей и разных историй, с повестями и удивительными приключениями, спросить на Бугорке в доме купца Опарина…» – Бог с ним, с некоторым слепым… «Продажная за излишеством славная девка, 18 лет, знающая чесать волосы, равно и пятки, всему нужному обучена, шьет в тамбур и золотом и собою очень хороша, во уверение же отдается покупателю на три дни рассмотреть, о которой на Петербургской стороне близ Сытнаго Рынку, против Пискунова питейного дому, на углу спросить дворника Сендюкова…» Штааль задумался. Он, собственно, не собирался покупать девку, но довольно долго воображал, какова славная девка собою и не взять ли ее, в самом деле, на три дня рассмотреть, а там видно будет? На случай записал длинный адрес. Затем прочел об изобретателе, который за пять рублей делал из кошки танцмейстера и учил ее писать на четырех языках… «Фу, какой вздор!..»
Поручик бросил газету и развернул другую – немецкую, серьезную: «Berlinische Zeitung von Staats und gelehrten Sachen».[1] Как человек образованный, он следил за политикой по иностранным ведомостям. Полюбовался виньеткой – на ней были изображены два подпоясанных венками бородатых человека с дубинами, – что за люди? – пробежал отдел «Publicandum»[2] – очень уж мелкая печать, читать скучно, – просмотрел политические новости… Триполийский паша объявил войну императору, неаполитанскому королю и еще другим монархам… Генерал Буонапарте одержал над Вюрмсером новую викторию… Газета писала осторожно, но по всему видно было, что виктория настоящая – одних пленных 1100 человек и взято пять пушек. Генерал сурьезный. Штааль почувствовал досаду, читая о победе карманьольщиков; особенно было досадно, что генерал с трудной фамилией очень молод, всего на четыре года старше его, Штааля. Поручик было нахмурился, но ему не хотелось настраиваться дурно. Он опять подошел к окну: по улице проходил отряд солдат в походной амуниции. Солдаты шли не в ногу и нестройно; сзади на дрожках, называемых гитарой, ехал офицер, – дисциплина и форма в екатерининские времена соблюдались очень нестрого. Штааль подумал, что отряд, верно, идет на север; поговаривали о новой войне с Швецией. Ему захотелось, чтобы началась война, – уж очень надоело тянуть лямку, – но не со Швецией: кому это интересно? – а настоящая война, с французами, под начальством фельдмаршала Суворова. Только так и можно сделать карьеру.
Поручик зевнул, открыл окно, хотя ноябрь был довольно холодный; морщась и зажав рот, далеко высунулся набок, чтобы увидеть, не едет ли карета Баратаева. Кареты не было видно. По противоположной стороне улицы шла не то дама, не то женщина – он не мог издали разобрать. Оказалась дама, но некрасивая, и Штааль почувствовал то наивное разочарование, которое в таких случаях испытывают мужчины. Он закрыл окно, вздохнул, вернулся к своему креслу, затем лениво потянулся к полке над креслом, на которой от прежних дежурств остались пустые бутылки да еще лежало в беспорядке несколько книг – библиотека кордегардии, предназначавшаяся для развлечения дежурных офицеров. Он стал просматривать книги одну за другой. «Несчастные любовники, или Истинные приключения графа Коминжа, наполненные событий весьма жалостных и нежные сердца чрезвычайно трогающих»… «Новоявленный ведун, поведающий гадания духов; невинное упражнение во время скуки для людей, не хотящих лучшим заниматься»… «Путешествий Гулливеровых 4 части, содержащий в себе путешествие в Бродинягу, в Лапуту, в Бальнибары, в Глубдубриду, в Лугнагу, в Японию и в Гуингмскую страну»… Нет, решительно ему не хотелось читать. А ведь когда-то читал запоем.
Штаалю не надолго, на минуту, стало жаль прошлого времени: и жизнь в шкловском училище, и первый приезд в Петербург, и даже приключения в революционном Париже теперь в воспоминании казались ему радостными и забавными. Военная служба, на которую он поступил по возвращении в Россию, скоро надоела молодому человеку. Красивый конногвардейский мундир радовал его сердце только два дня; на третий день он привык, а дисциплина, хоть и легкая, его тяготила. «День занимает служба – где уж тут читать книги? Да и денег лишних нет для покупки книг»… Денег у него было действительно немного. Между тем Штаалю не хотелось богатства, ему было нужно богатство. Другим оно не было нужно или, во всяком случае, значительно меньше. «Зачем старому дураку Александру Сергеевичу Строганову его дворец и земли? Зачем груды золота графу Безбородко?»
Штааль задумался о том, как бы сам он жил, если б был богачом. Имел бы дом в Петербурге, – да вот, хорошо купить Строгановский дворец на Невском, – имел бы дачу по Петергофской дороге, имел бы, разумеется, подмосковную (ему нравилось это слово). Были бы у него десятки красивых девушек – управляющий подбирал бы из крепостных… или нет, подбирал бы лучше он сам. И разумеется, немедленно выкупил бы Настеньку у Баратаева. Завел бы свой театр – Настенька была б у него первой актеркой… «Да… только на мои средства строгановского дома не купишь… Смерть надоела бедность… И надежд на богатство не видно. В мирное время карьеру у нас можно сделать только одним способом…» Штааль вдруг улыбнулся, вспомнив, как великий князь Константин Павлович, не очень давно, нечаянно в Таврическом дворце застал врасплох государыню с молоденьким графом Валерьяном Зубовым. Это приключение очень забавляло пятнадцатилетнего великого князя, и он рассказывал о нем с разными подробностями всякому, кто желал слушать (а слушать желали многие): «Бабушка-то, бабушка! – повторял с хохотом великий князь. – Что-то скажет о братце Платон Александрович, а? Никто, как свой…» Штааль улыбался, вспоминая рассказ взбалмошного великого князя, завидовал Валерьяну Зубову (бедный, каково ему теперь без ноги!) и вместе удивлялся, представляя 67-летнюю государыню: «Как он может? Я не мог бы! Опять же, как благородным путем выйти в люди? Честно служить, честно жениться, быть верным жене, дослужиться в пятьдесят лет до генеральского чина, – слуга покорный, так в скуке прожить хорошо для немца… Да… А чудак, однако, этот Баратаев… Не поймешь его… Розенкрейцер, что ли, или фармазон? Революцию ненавидит, но государыню тоже, кажется, не жалует… Алхимист… И как он смешно говорит, когда по-русски: при Елизавете Петровне так говорили или при Петре… А Настенька ужас как мила… Живет он с ней или не живет? Не иначе как живет. А может быть, нет?»
Он почувствовал, что по уши влюблен в Настеньку и что его мучит ревность. Настенька была артистка домашнего театра Николая Николаевича Баратаева. На театре этого богатого барина должен был играть вместе с другими молодыми людьми и сам Штааль, который как раз подыскивал для себя пьесу с подходящей ролью. Ему особенно нравилась роль дон Альфонсо, вельможи гишпанского, в слезной драмме Хераскова «Гонимые». Он еще раз хотел в этот день просить Баратаева поставить у себя на театре слезную драмму «Гонимые», с тем, разумеется, чтобы Зеилу играла Настенька. Штааль знал драму почти наизусть и некоторых трогательных сцен у пещеры на необитаемом острове не мог вспомнить без слез; особенно ту из них, где дон Альфонсо, вельможа гишпанский, кричал Зеиле: «И ты моего злодея дочерью учинилась!..» Молодой человек представлял себе, как Настенька с распущенными волосами приходит в беспамятство и как он обнимает ее колени с криком: «Убийца, смотри на плоды твоей свирепости!..»
Обожженный мыслью о коленях Зеилы, Штааль снова поднялся с кресла и прошелся по комнате. «Да, для этого можно прослушать весь вздор алхимиста. Потащит в лабораторию, пойду в лабораторию. Философический камень так философический камень…» Штааль почувствовал, что его заливает неудержимая радость. Он швырнул книгу на пол и неожиданно сделал несколько па из минавета а-ларен, напевая не совсем верно:
Ты скажи, моя прекрасна,Что я должен ожидать?2
«Пади, пади!..» – раздался с улицы крик на отчаянно высокой ноте (мальчиков-форейторов с высокими голосами, наводившими испуг – не случилось ли несчастья? – очень ценили владельцы богатых экипажей). Доски, которыми была выстлана улица, затрещали. Штааль поспешно подошел к окну. К кордегардии подъезжала огромная, о семи зеркальных стеклах, обложенная по карнизу стразами карета. Кучер сдерживал четверку белых лошадей. Два лакея в коричневых ливреях с басонами по борту, как у прислуги особ, следующих за двумя первыми классами, соскочили с запяток, откинули с шумом подножку и почтительно высадили барина, приподняв левыми руками треуголки. Проходивший мимо мужик с испугом остановился и снял шапку. Штааль не без смущения почувствовал, что и ему, как мужику, внушает уважение чужое великолепие. Лакеи, округлив спину и руки, подвели барина к кордегардии и распахнули широко дверь.
– Здоровы ли вы, сударь? – осведомился учтиво Штааль.
– Здоров. И вам желаю доброго здравия наипаче, – отрывисто ответил, снимая шубу, Баратаев. Это был высокий, очень некрасивый, но осанистый человек лет пятидесяти. В его странной наружности тотчас останавливали внимание голый череп с двумя симметричными плоскими площадками на темени, огромные, неправильно поставленные уши, ярко-красные губы, резко выделявшиеся на лице серого цвета, и всего больше – тяжелые, нечасто мигающие глаза.
– Здоров, – повторил он садясь.
Штааль выразил по этому случаю живейшее удовольствие. Одного вопроса о здоровье показалось ему, однако, мало, и он еще спросил, почти бессознательно подделываясь под старинную речь своего гостя:
– Менажируете ли, сударь, себя в работе? Нет важнее, как разумныя экзерциции на воздухе. По себе скажу…
Но он так и не сказал по себе ничего толком: тяжелые глаза Баратаева неподвижно остановились не мигая на лице Штааля. Молодой человек вдруг почувствовал крайнее смущение. Помявшись в запутанной фразе, он оставил тему о здоровье и несколько заговорил об успехах французов, о новой виктории генерала Буонапарте. Баратаев все глядел на него молча, не приходя ему на помощь, затем вдруг точно опомнился, мигнул (что успокоило Штааля) и принял разговор, как будто вспоминая чужие, неинтересные слова, которые нужно было говорить, чтобы отделаться:
– Сказывают люди, сей Буонапарте есть мужчина исполинского росту и, хоть однорукий, но силы непомерной, так что по две подковы зараз без малого труда ломает, как блаженный памяти царь Петр иль как Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, – сказал он равнодушно (Штааль почмокал губами в знак удивления). – Впротчем, может, люди и врут…
Опять оборвался разговор.
– Сколь, однако, тлетворен дух времен! – сказал наудачу Штааль, не совсем хорошо зная, кого и что он имел в виду. – Смеются народы гневу Божию, – не получив ответа, добавил он уже с некоторым отчаянием.
– Прилепились, сударь, к умствованиям паче меры легким, – ответил Баратаев. – Игра пустая, скажу, невеликого разума. Не вижу любомудрия над загадками мира неудоборешимыми. Вот о том и речь к вам вести намерен как к юноше молодому. Известно мне стало, что, невзирая на небольшие годы, уже видели вы немало… Что причиною было вашего вояжа в Париж, не ведаю. То ли антузиазм к учениям более мерзким, чем дерзким, к духу свободолюбия ложного и равенства мнимого? Но мыслю, на вас глядя, злых намерений иметь были неудобны. Может, просто вертопрашили и шалили?
– Ведь я как попал в Париж, – поспешно заметил Штааль, слегка покраснев. – Это целая гиштория (уже больше никто не говорил «гиштория», но Штааль чувствовал, что так будет лучше).
Он в тысячный раз рассказал о своей поездке в Париж. Рассказывал он ее не совсем правдиво – не то чтобы лгал, но кое о чем забывал, кое-что приукрашивал. Штаалю так часто приходилось рассказывать о Французской революции, что он уже почти не менял выражений рассказа, который выходил у него очень связным, занимательным и эффектным. Баратаев слушал молча. Когда Штааль окончил, гость заговорил снова. Штаалю было скучно, но сам он показал себя в лучшем свете и теперь предпочитал молчать: рассказ о путешествии по Европе был его самым выигрышным номером. Баратаев говорил так же старомодно, но еще более туманно и загадочно, чем всегда. Штааль многого не понимал и даже не мог сообразить, о чем, собственно, идет речь: об алхимии или о спасении души? Но это его не огорчало. Его занимал вопрос: чего хочет от него этот странный человек? Занимали также внимание Штааля симметричные площадки на темени гостя. Он думал, что на эти площадки можно положить по пятаку, и пятак как раз приляжет плотно и не слетит с неподвижной головы Баратаева… Но Штааль чувствовал, что больше ничего смешного нет в госте и что даже про себя очень трудно (а хотелось бы) установить к нему ироническое отношение.
Баратаев, недавно с ним познакомившийся, сам назначил ему свидание в этот день. Штааль, стыдясь своей бедной квартиры, пригласил его в кордегардию, как часто делали офицеры екатерининского времени. Был немало тем польщен, что знатный, богатый пожилой человек отдает ему, мальчишке, визит: очень желал также получить от Баратаева постоянное приглашение на дом. К этому, по-видимому, и шло дело. Баратаев как раз заговорил об отсутствии у него сотрудников.
«Меня, что ли, он зовет в сотрудники? – мелькнула догадка у Штааля. – В какие же сотрудники? За мной, впрочем, дело не станет. Только как же театр и Настенька?»
– Да, сударь, в наш век мало кто жаждет сердцем истины, – сказал он хоть не совсем твердо, но все-таки более уверенно, чем прежде. – Обуял души людей Луцифер мирской суеты.
Луцифера мирской суеты Штааль никогда не решился бы пустить иначе как в разговоре с розенкрейцером. Баратаеву, по-видимому, не понравилась его фраза. Он прошел взглядом по лицу молодого человека и молча взял с табурета (руки у него были огромные и потому страшные) книгу «Новоявленный ведун». Штааль смутился и покраснел. Посетитель перелистал томик и отложил его в сторону.
– Прелегкомысленное сочинение, – пробормотал Штааль.
– Вы еще молоды, – сказал Баратаев. – Доживши до старости моих дней, не будете читать подобного, но к другому потянетесь бессомненно. Молодость немалых сует притчина. С годами, сударь, когда обманетесь суетою пустого счастия, сколь многое пройдет, видя смерть неминуему: и легкомыслие, и бездельная корысть, и горделивость роскошелюбия…
«Сам-то в карете ездишь – пять тысяч дешево, – подумал Штааль. – Надоели мне твои проповеди… Подарил бы мне своих лошадок, уж я на себя возьму грех роскошелюбия, так и быть».
– Но сударь, естли вправду чувствительна душе вашей ее милость, – сказал хмуро Баратаев, – то в мирознании могли бы найти путеводителей… О науке древнейшей и таинственной говорит мудрый Соломон: «внемлите, я царственное глаголю»…
Он помолчал, затем начал снова:
– Намерен я, сударь, в немедленном времени убраться в земли чуждые. В сей вояж и вас взял бы с охотою. А естли вам того имение не дозволяет, то могу одолжить деньгами ради приватных услуг. Пока же милости прошу часто бывать для доброго знакомства, дом мой вам открыт.
– Благодарю, сударь, за великую вашу бонтэ, – сказал Штааль, вспыхнув от удовольствия. – Почту за особливую честь… А как, осмелюсь спросить, порешили насчет пиесы, которую будем играть на вашем театре?
Баратаев с недоумением уставился на молодого человека.
– Ах да, – сказал он равнодушно. – Играйте, что хотите. Какую-нибудь смешливую фарсу – ну, «Горе-богатыря Косометовича» или «Фигарову женитьбу». Гандошкина можно выписать, он славно песни играет. Или иудейский оркестр, что остался от князя Потемкина… Да стоит ли, сударь, о пустяках думать?
– Может быть, разрешите сыграть «Гонимых»? – спросил вкрадчиво Штааль и пояснил в ответ на вопросительный взор Баратаева: – «Гонимые», слезная драмма господина Хераскова, поэта нашего первейшего. Прекраснейшее сочинение.
– И прекрасно, Херасково сочинение и сыграйте, – подтвердил Баратаев, поднимаясь, к великой радости Штааля. – А вы ко мне неупустительно приезжайте завтра ввечеру, а то и поутру. Не без умысла вас приглашаю… Прощайте, сударь, мне недосужно. Третий час уже в половине.
Штааль проводил гостя на улицу, где лакеи снова подхватили барина. Один из них сказал с испуганным видом, что проезжавший только что извозчик говорил, будто во дворце случилась беда с матушкой-государыней, а какая беда, не знает.
– Rien de grave? Du moins, je l’espere?[3] – сказал Штааль по-французски, так как говорил в присутствии прислуги.
– Monsieur, rien de grave ne se passe dans le palais,[4] – отрывисто ответил, садясь в карету, Баратаев.
3
Во дворце в этот ноябрьский день действительно случилась беда.
Малый Ермитаж накануне вечером затянулся немного долее обычного. По общему отзыву гостей, давно уже не было так весело в тесном кругу государыни. Из-за границы как раз пришла эстафета с известиями. Одно известие было чрезвычайно приятное. Имперские войска одержали викторию над революционными генералами и принудили их произвести спешную ретираду за Рейн. Австрийцы уже давно не имели серьезных успехов. Неудачи союзников в Петербурге вначале встречались не без приятного чувства; они все увеличивали то значение, которое Европа придавала участию русских войск в войне против общего врага. Но в последнее время у союзников накопилось уж слишком много неудач, особенно в Италии, где генерал Буонапарте шел от победы к победе. Поэтому известие о виктории эрцгерцога Карла было встречено с искренней радостью. Императрица тотчас села за стол и написала экспромтом радостно-шутливую записку имперскому послу графу Кобенцлю: «Je m’empresse d’annoncer a l’excellente Excellence que les excellentes troupes de l’excellente Cour ont completement battu les Francais!».[5] Екатерина любила графа Кобенцля и допускала его в свой самый тесный круг. Он был очень некрасив, и безобразие его особенно оттеняло красоту князя[6] Платона Александровича: государыня любила сажать их рядом. Записка была прочтена вслух приближенным, и остроумие матушки вызвало общий восторг. На малом приеме только речи было, что об этой записке, о блестящей виктории австрийцев, о паническом бегстве французов за Рейн. Тон установился такой радостный, что веселье как-то распространилось и на второе известие, сообщенное эстафетой, хотя оно само по себе было печальное. Скончался сардинский король Виктор-Амадей III, и по этому случаю ожидался некоторый, хоть и непродолжительный, придворный траур. Траура и смерти в Ермитаже очень не любили. Но сардинский король был стар и решительно никого не интересовал. Государыня приняла известие об его кончине совершенно равнодушно и даже шутила с Львом Александровичем Нарышкиным, пугая его тем, что уж теперь, после сардинского короля, и он, верно, скоро умрет. Нарышкин, который для потехи явился на малый прием переодетый уличным разносчиком, хоть маскарада не было, старался делать комически испуганное лицо. Но шутка матушки была ему не очень приятна: он в самом деле чрезвычайно боялся смерти. Лев Александрович старался перевести разговор; вынимал из карманов леденцы, грецкие орехи, яблоки, выкрикивал товар хриплым голосом и продавал его гостям, как старый коробейник, забавляя все общество. Императрица смеялась так, что в самом конце Малого Ермитажа выразила опасение, не сделался бы у нее от смеха вновь припадок колик, как три дня тому назад. В одиннадцатом часу она удалилась, вместе с князем Зубовым, во внутренние покои и так хорошо провела ночь, что Марья Саввишна Перекусихина, войдя в семь часов утра в опочивальню, долго не могла ее добудиться.