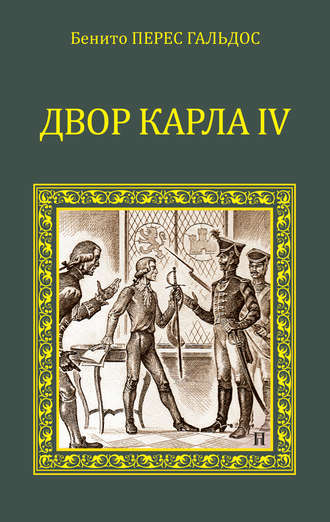
Полная версия
Двор Карла IV (сборник)
– Некоторые сцены – да; но там, где тебе приходилось играть со мной, ты была ужасна. Ты как будто забыла твою роль или играла через силу. Когда ты мне подала руку, то она горела, как в огне. Ты ошибалась на каждом шагу и, по-видимому, совсем забывала, что ты играешь со мной.
– О нет!.. Но я объясню тебе. Это оттого, что я боялась плохо сыграть. Я боялась, что ты рассердишься, а так как ты так строг в твоих выговорах…
– Во всяком случае, ты должна исправиться, если хочешь служить в моей труппе. Ты нездорова?
– Нет.
– Влюблена?
– О, нет, нисколько! – с смущением ответила артистка.
– Так что же это с тобой делается? Я не говорю, есть места, где ты была неподражаема, но стоило мне выйти на сцену, как ты сбивалась с тона!
– Ведь я же сказала, что это оттого, что я боялась, что ты будешь недоволен мною…
– Да я и действительно был недоволен тобою. Когда ты, обращаясь ко мне, сказала: «Муж мой, Гарчиа», то ты произнесла это так отвратительно, что мне хотелось побить тебя при всей публике. Пойми, Бланка боится, что муж узнает о ее неверности. Эта фраза должна звучать боязливо, смущенно, а ты произносишь ее, как по уши влюбленная модистка. А потом, когда ты умоляешь меня, чтоб я тебя убил, ты делаешь это без малейшей тени трагизма! Со стороны кажется, как будто ты жаждешь умереть от моей руки. А когда я говорю тебе:
Дорогая моя супруга,Как далеки мы друг от друга!– ты бросаешься ко мне в объятия гораздо раньше, чем следует. Одним словом, ты провалила пьесу и лишила меня успеха.
– Никто не может лишить тебя успеха!
– Да, но ты заметила, что сегодня мне аплодировали гораздо меньше, чем прежде. Ты доведешь меня до того, что я принужден буду выключить тебя из моей труппы…
– Ах, Исидоро! – сказала моя госпожа. – Я всегда стараюсь играть как можно лучше, но, знаешь ли, скажу тебе откровенно, что когда я играю с тобой и мне очень аплодируют, то я всегда боюсь, что мне по ошибке приписывают успех, который, по справедливости, должен принадлежать тебе. А когда ты еще делаешь мне угрожающие жесты, то я совсем путаюсь. Но обещаю тебе, что я обращу на это внимание и постараюсь исправиться.
Я не расслышал, что ответил на это дон Исидоро, потому что в это время задымила лампа, и мне пришлось вынести ее из залы. Когда я вернулся, дон Исидоро сидел на том же месте со скучающим выражением лица.
– Что же не приходят твои гости? – спросил он.
– Еще рано, – ответила донна Пепита. – Вижу, что ты скучаешь в моем обществе.
– Нет, но, откровенно говоря, до сих пор я не нахожу в нем ничего интересного.
Он вынул сигару и закурил. Я должен заметить, что знаменитый актер курил, а не нюхал табак, как многие его современники: Талейран, Меттерних, Россини и даже сам Наполеон I. Не знаю, насколько это справедливо, но про Наполеона рассказывают, что он, при его нетерпеливом характере, желая избежать постоянного открывания табакерки, насыпал табак в свой жилетный карман. Во время распланировки войск при Йене и Тильзитского мира он беспрестанно запускал руку в карман и нюхал табак. По этому поводу ходил даже анекдот. Когда спрашивали, какой предмет в Европе самый грязный, на это отвечали: «Жилет Наполеона I».
IVКогда пробило одиннадцать часов, в залу вошли донья Долорес и донья Амаранта. Они приехали в простой, а не придворной карете, чтоб избежать лишних толков.
В то время в придворных гостиных царили неизбежная скука и натянутость. Все чопорно сидели на своих местах и вели скучнейшие разговоры. Хорошо, если находился кто-нибудь, умевший играть на мандолине или гитаре. Тогда танцевали менуэт и несколько оживлялись, но в общем редко кто не старался подавить зевоту. Поэтому очень понятно, что многие сеньоры старались развлекаться в ином, более веселом кругу.
Обе молодые дамы, войдя в залу, внесли с собой целый поток веселья. Они приехали в сопровождении дяди сеньоры Амаранты, старого дипломата.
Герцогиня Долорес была обворожительная женщина, похожая на изящный нежный цветок, который готов поникнуть своей красивой головкой при малейшем дуновении ветерка или при слишком палящем солнце. Казалось, что ее невинный коралловый ротик может говорить только о монастырях и канониках, но это впечатление немедленно рассеивалось, как только она начинала свое веселое щебетание. Это была женщина среднего роста, белокурая и грациозная, как птичка. В ее присутствии никто не мог быть грустным, так как она сама была олицетворенное веселье.
Одним из несомненных достоинств доньи Долорес была способность к декламации. Все считали ее выдающейся актрисой, и, как я узнал впоследствии, она была ею не только на театральных подмостках, но и на жизненной сцене. Она участвовала во всех спектаклях, устраивавшихся в каком-либо аристократическом доме, и в данное время она разучивала с Исидоро Маиквесом роль Дездемоны в трагедии «Отелло», которая предполагалась к постановке у одной маркизы. Исидоро и моя госпожа также приглашены были участвовать в этом спектакле.
Донья Долорес была замужем. Три года тому назад, когда ей едва исполнилось девятнадцать лет, она вышла замуж за герцога, проводившего большую часть времени на охоте в своих обширных поместьях. Время от времени он приезжал в Мадрид, клялся своей жене, что больше не оставит ее, но затем снова исчезал на неопределенное время.
Донья Амаранта представляла собою совсем иной тип. Долорес пленяла, а Амаранта покоряла. При одном взгляде на первую вам становилось весело, а при взгляде на величественную красоту второй вас охватывала какая-то непонятная грусть. Ни одна из женщин, которых я видел в моей жизни, не производила на меня такого глубокого впечатления, как Амаранта, и ни одна из женщин не вытеснит ее из моей памяти. На вид ей было лет тридцать. Родом она была из дивной Андалузии, где красота природы не уступает красоте людей. При ее высоком росте, правильных чертах лица и вьющихся черных волосах, у нее были великолепные глаза, горевшие каким-то таинственным блеском.
Я не могу в точности припомнить ее обычного костюма, но в моей памяти сохранилось, что ее грациозная и вместе с тем классическая голова всегда была прикрыта изящной черной кружевной мантильей, из-под которой выглядывали золотые уголки головного гребня. Кроме того, я почти не помню ее без веера в руках.
Когда же я припоминаю Долорес, она всегда рисуется в моем воображении в белой кружевной мантилье, спускающейся на светло-голубое платье.
До этого вечера я видел этих двух сеньор раза три в доме моей госпожи. Я тотчас же понял, что они занимают хорошее положение при дворе. Но иногда они довольно горячо спорили между собою, и я заключил из этого, что между ними не существует полной гармонии. Иногда они говорили о политических делах и даже затрагивали некоторых лиц королевского дома; но в этих разговорах главную роль играл старый маркиз, дядя Амаранты. Он считал себя необыкновенно опытным дипломатом и не упускал случая напомнить всем об этом.
Я должен сказать, что этот знаменитейший дядюшка, как тень, следовал всюду за своей племянницей. Он был ее неизменным спутником и в церкви, и на прогулке, и на балу. Не помню, сказал ли я о том, что Амаранта была вдова.
Маркизу (фамилию его я не буду упоминать по той же причине, по которой не упоминаю фамилий обеих сеньор) было лет семьдесят, и он имел в свое время немало дипломатических назначений. Он сделался известным при министре Флоридабланке, служил затем при Аранде и был отставлен теперешним фаворитом, министром Годоем; поэтому он всячески старался унизить этого последнего. Маркиз был человек тщеславного характера и считал себя обойденным. Он очень любил ораторствовать, но при том говорил всегда загадками, темно, многое недоговаривая. Он делал это для того, чтобы возбудить интерес слушателей и заставить их просить его быть откровеннее.
Он ненавидел якобинцев и, желая, чтобы его слова не шли вразрез с поступками, с презрением смотрел на нововведения в модах. Как в 1798 году он носил фижмы и напудренный парик, так носил их и в 1807, не решаясь показаться в обществе во фраке.
В молодости маркиз был, однако, большим ловеласом. С годами, конечно, он успокоился и был вполне доволен, что племянница позволяет ему исполнять при себе роль пажа. Дом Пепиты Гонзалес он посещал чаще других, потому что тут его слушали и он мог держать себя свободнее, чем в гостиной какой-нибудь грандессы.
VДонья Долорес, ударяя дона Исидоро по плечу своим веером, сказала ему:
– Я очень сердита на вас, сеньор Маиквес! Да, очень сердита!
– За то, что я дурно играл сегодня? – спросил артист. – В этом виновата Пепилья.
– Нет, не за то, – ответила она, – и вы оба мне поплатитесь за это.
Услышав эти слова, Исидоро наклонил голову. Долорес нагнулась к нему и начала говорить что-то так тихо, что никто ничего не мог расслышать, но по улыбке, озарившей лицо Исидоро, видно было, что она говорила что-то приятное. Затем они продолжали разговор вполголоса, выслушивали друг друга с таким интересом, обменивались такими выразительными взглядами, что даже и ненаблюдательный человек мог бы заключить, что между ними существуют какие-то интимные дела.
Старый дипломат ухаживал за моей госпожой, но она в этот день была рассеянна, так как старалась прислушаться к разговору Долорес с Исидоро. Она поминутно менялась в лице, то краснела, то бледнела. Она старалась привлечь их внимание какой-нибудь громкой фразой, наконец, не выдержала и, обращаясь к ним, произнесла не совсем любезным тоном:
– Кончится ли когда-нибудь эта долгая исповедь? Если так будет продолжаться, то мы скоро все начнем перешептываться и поверять друг другу свои тайны.
– А тебе какое дело? – сказал Маиквес тем деспотическим тоном, которым он говорил обыкновенно с членами своей труппы.
Донна Пепита обиделась и долго сидела молча.
– Им так о многом надо переговорить, – едко произнесла Амаранта. – Третьего дня они держали себя точно так же. Да, сеньор Маиквес, надо пользоваться жизнью и ковать железо, пока горячо.
Долорес взглянула на свою подругу, или, вернее сказать, они обменялись многозначительными взглядами, по которым можно было заключить, что они не особенно ладят друг с другом и подпускают обоюдные шпильки.
А разговор между Долорес и артистом становился все оживленнее и оживленнее. Они как будто наперерыв торопились высказаться и оправдаться. Амаранта скучала, маркиз метал пылкие взгляды на мою госпожу и напрасно тратил перлы красноречия: она видимо волновалась, мучилась ревностью и забывала свою роль хозяйки дома. Тогда старый дипломат решил заговорить о своей излюбленной теме, хотя бы и в присутствии женщин.
– Да, вот мы сидим здесь спокойно, – начал он, – а в этот самый час готовится нечто такое, что, быть может, завтра же заставит всех нас встрепенуться…
Моя госпожа, очевидно, приняв решение не обращать вниманья на сидевшую в стороне парочку, с живостью спросила:
– А что такое?
– Так, ничего… Но мне кажется, что вряд ли в такое время можно быть спокойным, – ответил маркиз, впадая в свой обычный таинственный тон.
– Мне кажется, эти разговоры здесь неуместны, – строго заметила Амаранта.
– Почему же? – воскликнул дипломат. – Я знаю, что сеньора Пепа очень интересуется политикой и желала бы услышать от меня кое-что новенькое. Не правда ли?
– Еще бы! Я страшно интересуюсь всем этим, – сказала моя госпожа. – Политика – это моя сфера. Говорите, говорите, сеньор маркиз!
– Ах, донна Пепа, вы так меня вдохновляете, что я, пожалуй, изменю себе. Во время моей долголетней политической карьеры я пользовался репутацией самого сдержанного человека, но с вами я не могу не быть откровенным и боюсь, что открою вам государственные тайны.
– О, эти дипломаты способны меня с ума свести! – воскликнула моя госпожа с лихорадочным возбуждением. – Расскажите мне все, что вы знаете. Я готова слушать вас целый вечер! Вы, маркиз, один из самых интереснейших людей, которых я видела в моей жизни.
– Он скажет тебе, Пепа, то, что знает весь свет, – заметила Амаранта. – Он скажет тебе, что сегодня вечером войска Наполеона должны пересечь границу Испании.
– О, как это интересно! – воскликнула моя госпожа. – Говорите, маркиз, говорите!
– Племянница, ты перестанешь выводить меня из терпения? – произнес маркиз. – Дело вовсе не в том, пересекают или не пересекают французские войска наши границы, а в том, что они идут в Португалию, чтобы завладеть этим королевством и разделить его…
– Разделить? – весело переспросила донья Пепа. – Прекрасно, я очень рада!.. Пусть себе делят.
– Восхитительная Пепа, о подобных вещах нельзя судить так легко, – с важностью сказал маркиз. – О, со мной вы научитесь терпению и рассудительности!
– Это верно, – произнесла Амаранта в ответ на слова моей госпожи. – Португалию хотят разделить на три части: северную часть отдадут королеве Этрурии, середина останется для Франции, а из южных провинций Альгарбы и Алентохо сделают маленькое королевство, на престол которого сядет наш министр Годой.
– Ложные слухи, племянница, ложные слухи! – возразил маркиз. – Об этом много говорили в прошлом году, но теперь об этом нет и речи. Ты плохо следишь за ходом дел… Но я должен предупредить, что все, что я скажу, должно остаться между нами.
– Вы можете быть вполне уверены в моей скромности, – проговорила моя госпожа.
– В прошлом году министр Годой вел об этом серьезные переговоры с Наполеоном. По-видимому, дело было улажено. Но вдруг император раздумал, и тогда Годой, самолюбие которого было оскорблено и честолюбивые надежды разбиты, рассердился на Наполеона, опубликовал знаменитую прокламацию в прошлом октябре и послал в Англию тайного агента для того, чтобы заручиться покровительством этой страны против Франции. Все это я прекрасно знаю, потому что государственные тайны никогда не могут быть укрыты от моей проницательности. Прекрасно; в таком положении были дела, когда Наполеон разбил пруссаков под Йеной. Тогда Годой видит, что дело плохо, потому что император недоволен им за прокламацию, на которую у нас и во Франции смотрели чуть ли не как на объявление войны. Он посылает в Германию посланника с извинением к Наполеону и получает его, но уже не заводит и речи о разделе Португалии. Все это я знаю из самых верных источников. Как видишь, племянница, никто теперь и не говорит о разделе Португалии. То, что происходить теперь, гораздо серьезнее, но я не имею права разглашать это… Вы одобряете мою скромность, сеньора Пена? Вы согласны со мной, что осторожность родная сестра дипломатии?
– О, дипломатия! – аффектированно воскликнула моя госпожа. – Бонапарт, объявление войны, прокламации! Как все это интересно! Я ужасно люблю политику. Сегодня я положительно в восторге от разговора с вами, маркиз!
– Вы совершенно правы, – с удовольствием заметил дипломат. – Когда я был посланником в Вене в 84-м году, то все придворные дамы не могли наслушаться моих рассказов; они так и ходили за мной толпою.
– Это очень понятно, – ответила сеньора Пепа, – и я прошу вас, маркиз, расскажите мне что-нибудь об Австрии, о Турции, о Китае, о проектах войны, особенно о войне.
– Оставим на сегодняшний вечер этот скучный разговор, – сказала Амаранта. – Надеюсь, дорогой дядюшка, что вы не принадлежите к числу лиц, поддерживающих нелепое мнение о том, что будто бы Годой вместе с Бонапартом намерен отправить королевскую семью в Америку и сам сесть на испанский престол?
– Племянница, ради всего святого, не заставляй меня высказываться; не заставляй меня забывать великую истину, что осторожность есть родная сестра дипломатии!
– Не менее нелепо думать, – продолжала коварно племянница, – что Наполеон посылает свои войска в Испанию для того, чтобы передать испанскую корону Фердинанду. Наследник престола не может нуждаться в помощи какого-то иностранного выходца для того, чтобы сместить своего отца.
– Полноте, полноте, сеньоры, о таких важных делах нельзя так легко судить. Если бы я решился высказаться, то вы так испугались бы, что не в состоянии были бы ужинать!..
Как раз в это время ужин был готов, и я начал накрывать на стол. Исидоро и Долорес, перейдя к столу, по приглашению моей госпожи, приняли участие в общем разговоре.
– О чем это вы толкуете? – сказала Долорес. – Разве мы собрались сюда для того, чтобы рассуждать о том, что нас вовсе не касается?
– Так о чем же нам говорить?
– О чем-нибудь другом, ну, хоть о балах, о бое быков, о представлениях, о стихах, о костюмах…
– Вот еще! – с презрительной усмешкой произнесла моя госпожа. – Если вы можете говорить о том, что вас интересует, то почему же и нам не делать того же самого?
– Теперь я понимаю, почему Пепа так рассеянна, – насмешливо сказал Маиквес. – Она всецело отдалась изучению политики и дипломатии, гораздо более понятных ей, чем сценическое искусство.
Моя госпожа хотела возразить что-то на эти слова, но только вся вспыхнула.
– Мы собрались сюда, чтоб повеселиться, – прибавила Долорес.
– О, неопытная молодость! – с пафосом воскликнул маркиз. – Она думает только о веселье, когда целая Европа…
– Полноте вам с вашей целой Европой!
– Только одна сеньора Пепа понимает серьезное положение дел, – продолжал старый дипломат. – Вы, обворожительная артистка, одна из тех немногих, которые, как я, не удивятся наступающей катастрофе…
– Да скажете ли вы нам, наконец, в чем дело?
– Ради Господа и всех святых Его, не заставляйте меня высказываться! Я вполне уверен в моей стойкости и осторожности, но очень боюсь, что выдам себя какой-нибудь фразой, каким-нибудь словом… Не спрашивайте меня ни о чем, ради Бога; будьте уверены, что дружба не заставит меня проговориться.
– В таком случае мы умолкаем; мы ничего не хотим знать, сеньор маркиз, – сказал Маиквес, зная, что ничто не может так уколоть этого дипломата, как холодное отношение к скрываемым им тайнам.
На минуту все умолкли. Маркиз был, очевидно, смущен словами Маиквеса и взял себе двойную порцию салата. Донна Пепа тоже молчала и хоть и не глядела на влюбленную парочку, но зорко следила за нею. Амаранта не смотрела ни на Исидоро, ни на Долорес, ни на мою госпожу, ни на своего дядюшку, – она глядела только… на кого бы вы думали? На меня…
VIДа-с, она глядела на меня! Я не мог объяснить себе, почему это я так заинтересовал ее. Я прислуживал за столом, и трудно себе представить волнение, овладевшее мною, когда я заметил, что чудные, загадочные глаза этой сеньоры обращены на меня. Я поминутно то краснел, то бледнел. Кровь то быстро бросалась мне в голову и стучала в виски, то отливала к сердцу, и я бледнел, как мертвец. Не могу даже припомнить количества стаканов и рюмок, побитых мною в этот вечер. Служил я так рассеянно, что подавал сахар, когда у меня просили соль.
Я спрашивал себя: «Что такого в моем лице, что эта сеньора так упорно смотрит на меня? Чем я заинтересовал ее?» Входя в кухню, я тотчас же смотрелся в маленькое зеркальце, не находил в моем лице ничего необыкновенного и бежал в залу; там сеньора Амаранта вновь устремляла на меня свой таинственный взор… Одну минуту я думал… Но нет, может ли такая высокопоставленная женщина обратить внимание на слугу! И я стал думать, что она просто сравнивает мою скромную наружность со своей блестящей красотою.
Когда моя госпожа сделала мне выговор за то, что я так неловко служу у стола, Амаранта взглянула на меня с такой снисходительной улыбкой, как будто вымаливала извинение за мою неловкость. От этой улыбки мое смущение перешло всякие границы.
После непродолжительного молчания разговор снова сделался общим. Маркиз, видя, что никто ничего не спрашивает у него, кидал испытующие взгляды на присутствующих, отыскивая жертву для беседы. Но, по-видимому, никто не был расположен его слушать. Тогда он рассердился и сказал, что если все будут заставлять его высказывать дипломатические тайны, то ему придется уйти из этого дома.
– Но ведь мы ни слова не говорим о них с вами! – засмеялась Долорес.
Исидоро, зная, что маркиз враг Годоя, сказал невозмутимым тоном:
– Нельзя сомневаться, что князь де ла Паз[1], как человек высокого ума, уничтожит интриги врагов. Наполеон покровительствует ему и если не сделает его королем двух португальских провинций, то даст ему корону целой Португалии. Я знаю Наполеона; я не раз видал его в мою бытность в Париже. Он любит таких талантливых людей, как Годой. Вот увидите, сеньор маркиз, и мы все увидим, что новый король сделает вас своим представителем в одной из важнейших столиц в Европе.
Маркиз вытер себе рот салфеткой, откинулся на спинку стула, откашлялся и, устремив свои выцветшие глаза на графин с вином, как бы ища в нем поддержки, сказал после некоторого молчания:
– Мои многочисленные враги распустили слух по всей Европе, будто я совместно с Годоем вступил в тайную переписку с Талейраном, принцем Боргезе, принцем Томбино, с великим герцогом Аренбергским и с Лучиано Бонапартом, чтобы установить договор, в силу которого Испания уступит каталонские провинции Франции взамен Португалии и Неаполитанского королевства; отдаст Милан королеве Этрурии и Вестфалию инфанту испанскому. Я знаю, что об этом говорили, я слышал это моими собственными ушами! – воскликнул громко маркиз, стукнув кулаком по столу. – Клеветники оповестили об этом Австрию и Пруссию, за ними стала повторять то же самое и Россия. Мне понадобилось немало труда и такта, чтобы рассеять эти тучи, нависшие над моей головою.
Маркиз говорил это, как перед целым конгрессом дипломатов Европы, и продолжал, все возвышая голос:
– К счастью, я слишком хорошо известен в высших сферах, и мне слишком доверяют упомянутые государства. Но я знаю, кто придумал эту клевету! Сеньор Годой распустил эти слухи из своих личных выгод в надежде, что популярность моего имени заставит всех относиться к ним серьезно!
– Так что, это неправда, что говорят, будто вы тайный друг министра Годоя? – спросил Исидоро.
Дипломат сдвинул брови, презрительно улыбнулся, поднес к носу понюшку табаку и сказал:
– Чего не придумает клевета! Чего только глупые люди не скажут, чтобы унизить рассудительность и ум! Тысячу раз мне наносили подобные удары, и я всегда блистательно их парировал! В данном случае я должен повторить то, что говорил раньше. Я дал себе клятву не интересоваться больше этими сплетнями, но недоверие ко мне моих друзей принуждает меня нарушить мое слово. Я буду говорить откровенно, и если скажу что-нибудь лишнее, то в этом виноват буду не я, а те, которые не доверяют моей незапятнанной репутации.
Долорес, Исидоро и моя госпожа делали над собой усилие, чтоб не рассмеяться над этим человеком, так ревниво защищающим свою репутацию от воображаемых нападок.
– В 1792 году, – начал дипломат, – пало министерство графа Флоридабланки, который был замешан во французской революции. Ах, эта темная толпа не понимала, что она теряет с этим человеком, состарившимся на службе своему королю. Годой был тогда двадцатипятилетним молодым гвардейцем, пользовавшимся особенной любовью при дворе. Он повлиял на падение министерства Флоридабланки на возвышение графа Аранды. Я лично тут был ни при чем. Я был членом посольства при короле Леопольде и никаким образом не мог влиять на избрание министром моего друга графа Аранды. Но увы, он недолго управлял министерством. В ноябре того же года Испания и все державы были удивлены тем, что этот самый двадцатипятилетний молодой человек получил министерский портфель. Перед этим он был осыпан незаслуженными милостями. Он был сделан испанским грандом первого класса, кавалером ордена Карла III и креста Сантьяго, гвардейским генералом, камергером его величества и проч., и проч. Правда, что Годой принял министерство в критическое время. Он объявил войну Франции против воли Аранды и всех нас, здравомыслящих людей. Посоветовался ли он с нами? Нет. И что же, как мы видим, из этого ничего хорошего не вышло!
Король все продолжал осыпать милостями своего фаворита и даже женил его на принцессе королевской крови. Все эти милости к подобному выскочке возбудили недовольство приближенных. Всем известно, что он интриган и продает должности. Здесь я должен признаться, что я вовсе не влиял на возвышение министров торговли – Грачиа и юстиции – Сааведры и Уовельяноса. Умоляю вас, чтоб эта тайна, в первый раз сорвавшаяся с моих губ, осталась между нами!
– Уверяю вас, что мы будем немы, как рыбы, – сказал Исидоро.
– Но обстоятельства были непоправимы, – продолжал старый дипломат, обводя глазами всю залу, как бы видя перед собой огромную аудиторию. – Уовельянос и Сааведра ничего не могли поделать с этим высокомерным человеком. Французская республика была против него. Конечно, Уовельянос и Сааведра старались избавиться от такого опасного товарища, и наконец король внял гласу народа и в марте 1798 года дал Годою отставку. Объявляю раз и навсегда, что я не принимал участия в свержении Годоя, как это многие мне приписывали. Здесь я мог бы сказать одну тайну, о которой молчал до сих пор… но я недостаточно доверяю скромности моих слушателей и считаю более благоразумным умолчать о ней… Повторю только, что я не принимал участия в свержении Годоя.









