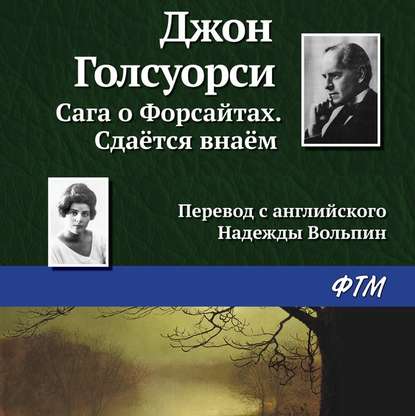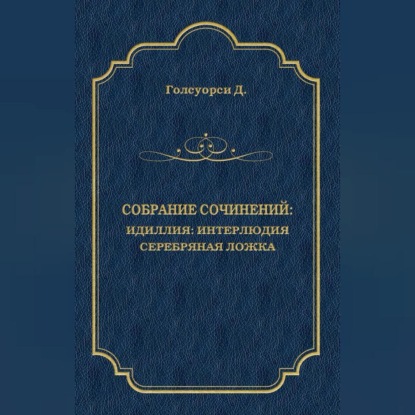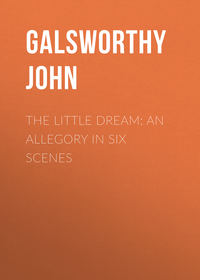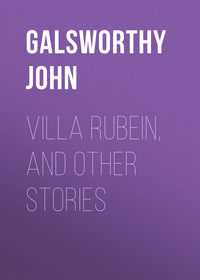Полная версия
Сдаётся внаём

Джон Голсуорси
Сдаётся внаём
От чресл враждебных родилась чета,Любившая наперекор звездам.Шекспир, «Ромео и Джульетта»Часть первая
I. Встреча
Двенадцатого мая 1920 года Сомс Форсайт вышел из подъезда своей гостиницы, Найтсбридж-отеля, с намеренном посетить выставку в картинной галерее на Корк-стрит и заглянуть в будущее. Он шел пешком. Со времени войны он, по мере возможности, избегал такси. Шоферы, на его взгляд, были отъявленные невежи, хотя теперь, когда война закончилась и предложение труда снова начало превышать спрос, они становились почтительней согласно законам человеческой природы. Но Сомс им так и не простил: в глубине души он отождествлял их с мрачными тенями прошлого, а ныне смутно, как все представители его класса, – с революцией. Сильные волнения, перенесенные им во время войны, и еще более сильные волнения, коим подвергло его заключение мира, не прошли без психологических последствий для его упрямой натуры. Он столько раз в мыслях переживал разорение, что перестал верить в его реальную возможность. Чего же еще ждать, если и так приходится платить четыре тысячи в год подоходного и чрезвычайного налога![1] Состояние в четверть миллиона, обремененное только женой и единственной дочерью и разнообразно обеспеченное, представляло существенную гарантию даже против такого «нелепого новшества», как налог на капитал[2]. Что же касается конфискации военных прибылей, то ей Сомс всецело сочувствовал – сам он таковых не имел. «Прощелыги! Так им и надо», – говорил он о тех, кто нажился на войне. На картины между тем цены даже поднялись, и с начала войны дела с коллекцией шли у него все лучше и лучше. Налеты цеппелинов также подействовали благотворно на человека, по природе осторожного, и укрепили и без того упорный характер. Возможность в любую минуту взлететь на воздух приучала относиться более спокойно к взрывам небольших снарядов в виде всяческих обложений и налогов, а привычка ругать немцев за бессовестность естественно перерождалась в привычку ругать тред-юнионы – если не открыто, то в тайниках души.
Он шел пешком. Торопиться было некуда, так как они условились с Флер встретиться в галерее в четыре, а сейчас было только половина третьего. Ходить пешком Сомс считал для себя полезным – у него пошаливала печень, да и нервы слегка развинтились. Жена его, когда они жили в городе, никогда не сидела дома, а дочь была прямо неуловима и целый день «носилась по разным местам», легкомысленная, как большинство молодых девушек послевоенной формации. Впрочем, уже и то хорошо, что по своему возрасту она не могла принять участие в войне. Из этого не следует, что Сомс не поддерживал войны всей душой с первых ее дней, но между такою поддержкой и личным, непосредственным участием в войне родной дочери и жены зияла пропасть, созданная его старозаветным отвращением к экстравагантным проявлениям чувств. Так, например, он решительно воспротивился желанию прелестной Аннет (в четырнадцатом году ей было только тридцать четыре года) поехать во Францию, на свою «chère patrie»[3], как она выражалась теперь под влиянием войны, и ухаживать там за своими «braves poilus»[4]. Губить здоровье, портить внешность! Да какая она, в самом деле, сестра милосердия! Сомс наложил свое veto: пусть дома шьет на них или вяжет. Аннет не поехала, но с этого времени что-то в ней изменилось. Ее неприятная наклонность смеяться над ним – не открыто, а как-то по-своему, постоянно подтрунивая, – заметно возросла. В отношении Флер война разрешила трудный вопрос – отдать ли девочку в школу или нет. Лучше было отдалить его от воинствующего патриотизма матери, от воздушных налетов и от стремлений к экстравагантным поступкам; поэтому Сомс поместил ее в пансион, настолько далеко на западе страны, насколько это, по его представлениям, было совместимо с хорошим тоном, и отчаянно по ней скучал. Флер! Он отнюдь не сожалел об иностранном имени, которым внезапно, при ее рождении, решил окрестить дочь, хоть это и было явной уступкой Франции. Флер! Красивое имя – красивая девушка! Но неспокойная, слишком неспокойная, и своенравная! Сознает свою власть над отцом! Сомс часто раздумывал о том, какую он делает ошибку, что так трясется над дочерью. Старческая слабость! Шестьдесят пять! Да, он старится; но годы не очень давали себя знать, так как, на его счастье, несмотря на молодость и красоту Аннет, второй брак не пробудил в нем горячих чувств. Сомс знал в жизни лишь одну подлинную страсть – к своей первой жене, к Ирэн. Да! А тот бездельник, его двоюродный братец Джолион, которому она досталась, совсем, говорят, одряхлел. Неудивительно – в семьдесят два года, после двадцати лет третьего брака.
Сомс на минуту остановился, прислонясь к решетке Роттен-Роу. Самое подобающее место для воспоминаний – на полпути между домом на Парк-Лейн, который видел его рождение и смерть его родителей, и маленьким домиком на Монпелье-сквер, где тридцать пять лет назад он вкусил радости первого брака. Теперь, после двадцати лет второго брака, та старая трагедия казалась Сомсу другой жизнью, которая закончилась, когда вместо ожидаемого сына родилась Флер. Сомс давно перестал жалеть, хотя бы смутно, о нерожденном сыне. Флер целиком заполнила его сердце. В конце концов, дочь носит его имя, и он совсем не жаждет, чтобы она его переменила. В самом деле, если он и думал иногда о подобном несчастье, оно умерялось смутным сознанием, что он может сделать свою дочь достаточно богатой, чтобы имя ее перевесило и, может быть, даже поглотило имя того счастливца, который женится на ней, – почему бы и нет, раз женщина в наши дни, по-видимому, сравнялась с мужчиной? И Сомс, втайне убежденный в неизменном превосходстве своего пола, крепко провел вогнутой ладонью по лицу и дал ей успокоиться на подбородке. Благодаря привычке к воздержанию он не разжирел и не обрюзг; нос у него был белый и тонкий; седые усы были коротко подстрижены; глаза не нуждались в стеклах. Легкий наклон головы умерял излишнюю высоту лба, создаваемую отступившими на висках седыми волосами. Не много перемен произвело время в этом «самом богатеньком» из младших Форсайтов, как выразился бы последний из старшего поколения, Тимоти Форсайт, которому шел теперь сто первый год.
Тень платанов падала на его простую фетровую шляпу. Сомс дал отставку цилиндру – в наши дни не стоит афишировать свое богатство. Платаны! Мысль круто перенесла его в Мадрид – к последней Пасхе перед войной, когда он, сомневаясь, купить ли Гойю[5] или нет, предпринял путешествие с целью изучить художника на его родине. Гойя произвел на него впечатление – первоклассный художник, подлинный гений! Как ни высоко ценят сейчас этого мастера, решил он, его станут ценить еще выше, прежде чем окончательно сдадут в архив. Новое увлечение Гойей будет сильнее первого; о, несомненно! И Сомс купил картину. В ту поездку он, вопреки своему обычаю, заказал также копию с фрески «La Vendimia»[6]; на ней была изображена подбоченившаяся девушка, которая напоминала ему дочь. Полотно висело теперь в его галерее в Мейплдерхеме и выглядело довольно убого – Гойю не скопируешь. Однако в отсутствие дочери Сомс часто заглядывался на картину, плененный неуловимым сходством – в легкой, прямой и стройной фигуре, в широком просвете между изогнутыми дугою бровями, в затаенном пламени темных глаз. Странно, что у Флер темные глаза, когда у него самого глаза серые – у истого Форсайта не может быть карих глаз, – а у матери голубые! Но, правда, у ее бабушки Ламот глаза темные, как патока.
Он пошел дальше в направлении к «Углу» Хайд-парка. Ярче всего произошедшая в Англии перемена отразилась на Роттен-Роу. Родившись в двух шагах отсюда, Сомс помнил Роу с 1860 года. Сюда приводили его ребенком, и он, выглядывая из-за кринолинов, глазел на всадников с бакенбардами в тугих лосинах – как скакали они мимо, рисуясь своей кавалерийской посадкой, как снимали учтиво белые с выгнутыми полями цилиндры; самый воздух дышал досугом; колченогий человечек в длинном красном жилете вечно терся среди модников, держа на сворках несколько собак и все набиваясь продать одну из них его матери: болонки кинг-чарлз, итальянские борзые, питавшие явное пристрастие к ее кринолину, – их теперь не увидишь нигде. Не увидишь ничего изысканного: сидит унылыми рядами рабочий люд, и не на что ему поглядеть, разве что проедет, сидя по-мужски, краснощекая толстушка в котелке или проскачет житель дальней колонии на невзрачной лошаденке, взятой напрокат; трусят на приземистых пони маленькие девочки, катаются для моциона старички да пронесется изредка ординарец, проезжая крупного, резвого скакуна; ни чистокровных жеребцов, ни грумов, ни поклонов, ни шарканья ножкой, ни пересудов – ничего; только деревья остались те же – безразличные к смене поколений и к упадку рода человеческого. Вот она, демократическая Англия – всклокоченная, торопливая, шумная и, видимо, с обрубленной верхушкой. Сомс почувствовал, как у него в груди зашевелилась какая-то брезгливость. Замкнутая твердыня чинности и лоска невозвратно канула в вечность. Богатство осталось – о да! Он и сам богаче, чем был когда-либо его отец; но манеры, но вкус и достоинство – этого больше нет: все смешалось в толчее громадной, безобразной, пропахшей бензином галерки. То здесь, то там промелькнут маленькие затертые оазисы учтивости и хорошего тона, единичные и жалкие – chétifs[7], как сказала бы Аннет; но ничего прочного и цельного, что могло бы порадовать глаз. И в эту мешанину дурных манер и распущенных нравов брошена его дочь – цветок его жизни! А если заберут в свои руки власть лейбористы – неужели это им удастся? – вот когда наступит самое худшее!
Он прошел под аркой, с которой сняли наконец – слава богу – уродливый землисто-серый прожектор. «Навели бы лучше прожекторы на дорогу, по которой все они идут, – подумал он, – осветили бы свою пресловутую демократию», – и он направил стопы свои по Пикадилли, минуя клуб за клубом. В фонаре «Айсиума» сидит, несомненно, Джордж Форсайт. Джордж так раздобрел, что проводит в клубе почти все свое время – некий недвижный, насмешливый, сардонический глаз, наблюдающий падение людей и нравов. И Сомс ускорил шаг, так как чувствовал себя всегда неловко под взглядами своего двоюродного брата. Джордж, как он слышал, в разгар войны написал воззвание за подписью «Патриот», в котором жаловался на истерию правительства, снижающего рацион овса скаковым лошадям. Да, вот он сидит, высокий, грузный, элегантный, чисто выбритый, со слегка поредевшими гладкими волосами, от которых неизменно пахнет превосходным одеколоном, и держит в руке неизменный розовый листок спортивной газеты. Джордж не меняется! И может быть, в первый раз у Сомса забилось под жилетом теплое чувство к этому пересмешнику. Его дородность, его безукоризненный пробор, тяжелый взгляд его бычьих глаз являлись гарантией, что старый порядок не так-то легко свалить. Он увидел, что Джордж пригласительно машет ему розовым листком – верно, хочет справиться насчет своих денег. Его капитал все еще находился под опекой Сомса: вступив компаньоном-пайщиком в юридическую контору двадцать лет назад, в тот мучительный период своей жизни, когда он разводился с Ирэн, Сомс как-то незаметно для других и для себя удержал за собой управление всеми денежными делами Форсайтов.
После минутного колебания он кивнул Джорджу и вошел в клуб. Со времени смерти в Париже его зятя Монтегью Дарти – смерти, которую каждый объяснял по-своему, соглашаясь лишь в одном, что это не самоубийство, «Айсиум-клуб» казался Сомсу более приличным, чем раньше. Джордж тоже, как ему было известно, успел «перебеситься», растратил свой прежний пыл и окончательно отдался чревоугодию, выбирая лишь самые изысканные блюда, чтобы дальше не полнеть, да сохранил, по его собственным словам, «только двух-трех старых кляч, дабы не утратить окончательно интереса к жизни». Итак, Сомс подсел к своему двоюродному брату у столика в фонаре, не испытывая, как в былые времена, стеснительного чувства, что он совершает нескромность. Джордж протянул ему холеную руку.
– Мы с тобой давно не виделись, с начала войны. Как поживает твоя жена?
– Благодарю, – холодно ответил Сомс, – недурно.
Скрытая усмешка покривила на мгновение мясистое лицо Джорджа и плотоядно притаилась в глазу.
– Этот бельгиец Профон, – сказал он, – прошел у нас в члены клуба. Подозрительный субъект.
– Н-да, – пробурчал Сомс. – О чем ты хотел со мной поговорить?
– О старом Тимоти; он может каждую минуту сорваться с крючка. Завещание он, наверно, составил?
– Да.
– Так вот, тебе или кому-нибудь из нас следовало бы его навестить – как-никак последний из старой гвардии; ведь ему стукнуло сто. Он, говорят, совсем превратился в мумию. Где вы думаете его похоронить? Он заслужил пирамиду.
Сомс покачал головой.
– Похороним его в Хайгете, в фамильном склепе.
– Правильно. Наши дорогие старушки соскучились там по нему. Говорят, он еще проявляет интерес к еде. Он, знаешь ли, может долго протянуть. Нам ничего не причитается за наших стариков? Десять старых Форсайтов жили в среднем по восемьдесят восемь лет. Я высчитал. Государство должно бы выдать за них премию – приравнять их к тройням.
– Это все? – спросил Сомс. – А то мне пора идти.
«Филин ты этакий», – ответили, казалось, глаза Джорджа.
– Да, все. Загляни к старичку в мавзолей – вдруг захочет попророчествовать. – Усмешка замерла в обильных рытвинах на его лице. Он добавил: – Неужели вы, адвокаты, еще не изобрели способа отлынивать от подоходного налога, будь он трижды проклят! Он дьявольски бьет по наследственной ренте. Я привык получать две с половиной тысячи в год, а теперь мне оставили какие-то нищенские полторы тысячи, а жизнь вздорожала вдвое.
– Эге! – промычал Сомс. – Скачки становятся не по карману?
Насмешливо-оборонительная улыбка пробежала по лицу Джорджа.
– Да, – сказал он, – я так воспитан, чтобы ничего не делать, и вот теперь, на склоне лет моих, нищаю с каждым днем. Эти лейбористы намерены драть с нас семь шкур, пока не оберут дочиста. Чем ты думаешь тогда зарабатывать свой хлеб? Я буду работать свои шесть часов в день – буду обучать политиков искусству понимать юмор. Мой тебе совет, Сомс: пройди в парламент, обеспечь себе четыреста фунтов в год[8] и найми меня учителем.
И, когда Сомс удалился, он занял свое прежнее место у окна в фонаре.
Сомс шел по Пикадилли, углубившись в размышления, вызванные словами кузена. Он всегда трудился и копил, а Джордж всегда бездельничал и транжирил; и все-таки, если дело дойдет до конфискации, то в первую голову будет ограблен он, бережливый труженик! Это было отрицанием всякой добродетели, ниспровержением всех форсайтских принципов. А может ли цивилизация строиться на каких-либо иных принципах? Сомс полагал, что не может. Правда, картин у него не отберут – не поймут их ценности. Но сколько будут стоить картины, если эти сумасброды начнут нажимать на капитал? Ровным счетом ничего. «Я не за себя тревожусь, – думал он. – Я мог бы жить на пятьсот фунтов в год – в моем-то возрасте – и не заметил бы разницы». Но Флер! Это состояние, так умно застрахованное, эти сокровища, так старательно выбранные и накопленные, – все это предназначалось для нее. И если окажется, что он не сможет передать или завещать их дочери, тогда жизнь бессмысленна, и что пользы тогда ходить на сумасшедшую футуристическую выставку и раздумывать, есть ли у «будетлян» какое-нибудь будущее?
Как бы там ни было, прибыв в галерею на Корк-стрит, он заплатил свой шиллинг, купил каталог и вошел. По зале слонялось человек десять посетителей. Сомс храбро двинулся к чему-то, что показалось ему похожим на фонарный столб, накренившийся от столкновения с автобусом. Вещь была выдвинута на три шага от стены и в каталоге названа «Юпитером». Сомс с любопытством осматривал ее, так как с недавнего времени уделял некоторое внимание скульптуре. «Если это Юпитер, – думал он, – то какова же Юнона?» И вдруг, как раз напротив, он узрел и ее. Богиня показалась ему как нельзя более похожей на водокачку с двумя рычагами, слегка запорошенную снегом. Он глядел на нее в недоумении, когда налево, рядом с ним, остановились двое.
– Сногсшибательно! – громко сказал один из них.
– Жаргонное словечко! – проворчал про себя Сомс.
Мальчишеский голос другого возразил:
– Брось, старина! Это же издевательство над зрителями. Он, когда мастерил свою олимпийскую парочку, верно, приговаривал: «Посмотрим, как проглотит их наше дурачье». А дурачье глотает и облизывается.
– Ах ты, зеленый зубоскал! Воспович – новатор. Не видишь разве, что он вносит в ваяние сатиру? Будущее пластического искусства, музыки, живописи, даже архитектуры – в сатире. Ничего не попишешь. Народ устал – для чувствительности нет почвы: из нас вышибли всякую чувствительность.
– Так. Но я считаю себя вправе питать некоторую слабость к красоте. Я прошел через войну. Вы обронили платок, сэр.
Сомс увидел протянутый ему носовой платок. Он взял его с присущей ему подозрительностью и поднес к носу. Запах был правильный – чуть пахло одеколоном, метка в уголке. Несколько успокоившись. Сомс поднял глаза на молодого человека. У него были уши фавна, смеющийся рот со щеточкой усов над углами губ и маленькие живые глаза. В одежде ничего экстравагантного.
– Благодарю вас, – сказал он и, движимый раздражением против скульптора, добавил: – Рад слышать, что вы цените красоту; в наши дни это редкость.
– Я на ней помешан, – сказал молодой человек. – Но мы с вами, сэр, последние представители старой гвардии.
Сомс улыбнулся.
– Если вы в самом деле любите живопись, вот вам моя карточка. В любое воскресенье я могу показать вам несколько недурных картин, если вам придет охота, катаясь по реке, заглянуть ко мне.
– Страшно мило с вашей стороны, сэр. Заскочу непременно. Меня зовут Монт, Майкл Монт.
Он поспешно снял шляпу.
Сомс, уже раскаиваясь в своем внезапном порыве, также слегка приподнял шляпу и покосился на второго из молодых людей. Лиловый галстук, препротивные бачки, точно два слизняка, и презрительно прищуренные глаза – вероятно, поэт!
За много лет Сомс в первый раз допустил подобную оплошность и, взволнованный, уселся в нише. Чего ради ему вздумалось дать свою карточку какому-то вертоплясу, который водится с подобными субъектами? И образ Флер, всегда таившийся за каждым его помыслом, выступил, как с боем часов выступает заводная филигранная фигура на старых курантах. На стенде против ниши висело белое полотно, а на нем множество желто-красных, точно помидоры, кубиков – и больше ничего, как показалось Сомсу из его убежища. Заглянул в каталог: N 32, «Город будущего» – Пол Пост. «Полагаю, тоже сатира, – подумал он. – Ну и чушь!» Но следующая его мысль была уже осторожней. Нельзя торопиться с осуждением. Имела же успех – и очень громкий – полосатая мазня Моне[9]; а пуантилисты[10], а Гоген[11]? Даже после постимпрессионистов[12] было два-три художника, над которыми смеяться не приходится. За те тридцать восемь лет, что Сомс был ценителем живописи, он наблюдал столько «движений», столько было приливов и отливов во вкусах и в самой технике письма, что мог бы сказать с уверенностью только одно: на всякой перемене моды можно заработать. Возможно, что и теперь перед ним был один из тех случаев, когда надо или подавить в себе врожденные инстинкты, или упустить выгодную сделку. Он встал и застыл перед картиной, мучительно стараясь увидеть ее глазами других. Над желто-красными кубиками оказалось нечто, что он принял было за лучи заходящего солнца, пока кто-то из публики не сказал мимоходом: «Удивительно дан аэроплан, не правда ли» Под кубиками шла белая полоса, иссеченная черными вертикалями, которым Сомс уж вовсе не мог подобрать никакого значения, пока не подошел кто-то еще и не прошептал: «Сколько экспрессии придает этот передний план!» Экспрессия? Выразительность? А что же тут выражено? Сомс вернулся к своему креслу в нише. «Умора», – сказал бы его отец и не дал бы за эту вещь ни полпенни. Экспрессия! На континенте, как он слышал, теперь все поголовно стали экспрессионистами. Докатилось, значит, и до нас. Ему вспомнилась первая волна инфлюэнцы в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом или восьмом году, которая шла, как говорили, из Китая. А откуда, интересно, пошел экспрессионизм? форменная эпидемия!
Между Сомсом и «Городом будущего» остановились женщина и юноша. Они стояли к нему спиной, но Сомс поспешно заслонил лицо каталогом и, надвинув шляпу, продолжал наблюдать за ними. Он не мог не узнать эту спину, по-прежнему стройную, хотя волосы над ней поседели. Ирэн! Его разведенная жена Ирэн! А этот юноша, наверное, ее сын – ее сын от Джолиона Форсайта, их мальчик, он на шесть месяцев старше его собственной дочери! И, вновь переживая в мыслях горькие дни развода. Сомс встал, чтобы уйти, но тотчас поспешно сел на прежнее место. Ирэн повернула голову, собираясь что-то сказать сыну; в профиль она была так моложава, что седые волосы казались напудренными, точно на маскараде; а на губах ее блуждала улыбка, какой Сомс, первый обладатель этих губ, никогда на них не видел. Он против воли признал, что эта женщина еще красива и что стан ее почти так же молод, как был. А как улыбнулся ей в ответ мальчишка! У Сомса сжалось сердце. Его чувство справедливости было оскорблено. Да, улыбка ее сына вызывала в нем зависть – это превосходило все, что давала ему Флер, и это было незаслуженно! Их сын мог бы быть его сыном. Флер могла бы быть ее дочерью, если бы эта женщина не преступила черту! Он опустил каталог. Если она его увидит – что же, тем лучше. Воспоминание о своем проступке в присутствии сына, который, может быть, ничего не знает о ее прошлом, будет благим перстом Немезиды, который рано или поздно должен коснуться ее! Потом, смутно сознавая, что подобная мысль экстравагантна для Форсайта в его возрасте, Сомс вынул часы. Начало пятого! Флер запаздывает! Она пошла к его племяннице Имоджин Кардиган, и там ее, конечно, угощают папиросами, сплетнями, всякой ерундой. Сомс услышал, как юноша рассмеялся и сказал с горячностью:
– Мамочка, это, верно, кто-нибудь из «несчастненьких» тети Джун?
– Это, кажется, Пол Пост, мой родной.
Сомс вздрогнул от этих двух последних слов: он никогда не слышал их от Ирэн. И вдруг она его увидела. Должно быть, в глазах его отразилась саркастическая улыбка Джорджа Форсайта, так как ее затянутая в перчатку рука крепко сжала складки платья, брови поднялись, лицо окаменело. Она прошла мимо.
– Уродство! – сказал мальчик и снова взял ее под руку…
Сомс глядел им вслед. Мальчик был хорош собой: у него был форсайтский подбородок, глубоко посаженные темно-серые глаза, но что-то солнечное искрилось в его лице, как старый херес в хрустальном бокале, – улыбка ли его? Или волосы? Он лучше, чем они того заслужили – Ирэн с Джолионом. Мать и сын скрылись из виду в соседней комнате, а Сомс продолжал рассматривать «Город будущего», но не видел его. Улыбка скривила его губы, он презирал себя за то, что после стольких лет все еще чувствовал так остро. Призраки! Но когда человек стареет, что остается ему, кроме призраков? Правда, у него есть Флер! И глаза его остановились на входных дверях. Ей пора прийти; но она обязательно должна заставить его ждать! И вдруг перед ним явилась… не женщина – ветер: маленькая легкая фигурка, одетая в сине-зеленый балахон, перехваченный металлическим поясом; из-под ленты на лбу выбивались непокорные красного золота волосы, подернутые сединой. Она остановилась, заговорив со служителями галереи, и что-то очень знакомое дразнило память Сомса: глаза, подбородок, волосы, повадка – что-то в ней напоминало крошечного скай-терьера, ожидающего обеда. Ну конечно! Джун Форсайт! Его двоюродная племянница Джун, и она направляется прямо в его укромный уголок!
Джун в глубокой задумчивости села рядом с ним, достала записную книжку и сделала карандашом пометку. Сомс боялся шелохнуться. Проклятая вещь – родство! «Безвкусица», – услышал он ее шепот; потом, словно в досаде на присутствие постороннего, который может ее подслушать, она взглянула на него. Случилось самое худшее!
– Сомс!
Сомс повернул голову на самую малую толику.
– Как поживаете? – спросил он. – Мы с вами не виделись двадцать лет.
– Да. Что вас сюда привело?
– Не иначе, как мои грехи, – ответил Сомс. – Ну и мазня!
– Мазня? О, конечно! Ведь это еще не получило признания.
– И никогда не получит, – ответил Сомс. – Это должно приносить убийственные убытки.
– Несомненно. И приносит.
– А вы откуда знаете?
– Эта галерея моя.
Сомс в неподдельном изумлении повел носом.
– Ваша? Чего ради вы устраиваете подобные выставки?
– Я не смотрю на искусство как на бакалейную торговлю.
Сомс указал на «Город будущего».
– Взгляните на это! Кто станет жить в таком городе? Или кто повесит такую картину у себя в доме?
Джун загляделась на полотно.