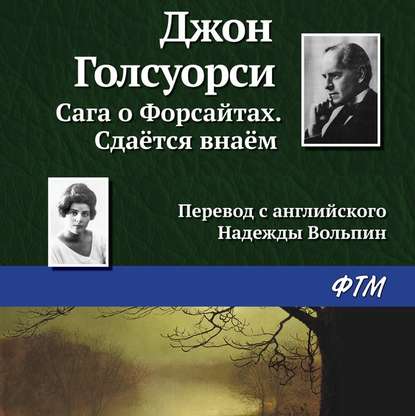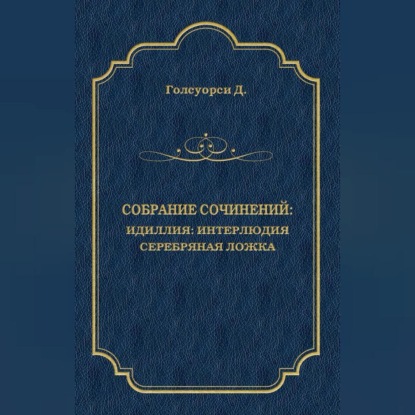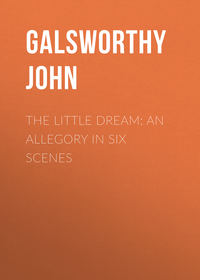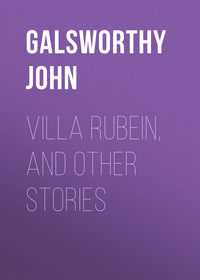Полная версия
Белая обезьяна

Джон Голсуорси
Белая Обезьяна
Все вперед, все вперед.Отступления нет,Победа иль смерть.ГэйЧасть первая
I. Прогулка
В этот памятный день середины октября 1922 года сэр Лоренс Монт, девятый баронет, вышел из «Клуба шутников», как прозвал его Джордж Форсайт в конце восьмидесятых годов, спустился по ступеням, стертым ногами приверженцев существующего порядка вещей, повел своим острым носом по ветру и быстро засеменил тонкими ногами. Занимаясь политикой скорей по долгу высокого рождения, чем по призванию, он смотрел на переворот, вернувший к власти его партию, с беспристрастностью, не лишенной юмора. Проходя мимо клуба «Смена», он подумал: «Да, им теперь придется попотеть! Пусть посидят без сладкого для разнообразия!»
Командоры и короли удалились из «Клуба шутников» еще до вступления туда сэра Лоренса; он-то не принадлежит к этим крохоборам, которым теперь дали отставку, нет, сэр! Он не из тех людей, что отмахнулись от земельной проблемы, как только кончилась война, – брр! Однако целый час он слушал отклики на последние события, и его живой и гибкий ум, насквозь пропитанный культурой прошлого и полный скептицизма по отношению к настоящему и ко всем политическим! платформам и декларациям, с насмешкой отмечал путаницу патриотических мотивов и забот о личной выгоде, которая осталась после этого знаменательного собрания. Как большинство землевладельцев, он не доверял никаким доктринам. Его единственным политическим убеждением был налог на пшеницу, и, насколько он мог судить, единомышленников у него не осталось; впрочем, он и не думал выставлять свою кандидатуру на выборах, – другими словами, на его принцип не могли покуситься избиратели, которым приходилось платить за хлеб. «Принципы! – думал он. – Ведь au fond[1] – это карман!» И, черт побери, когда же люди перестанут притворяться, что это не так! Карман, разумеется, в широком смысле слова, – так сказать, эгоистические интересы каждого как члена определенного общества. А как, черт возьми, это определенное общество – английская нация – сможет существовать, если все его поля останутся необработанными, а вражеские аэропланы будут грозить разрушением английским кораблям и докам? В клубе он весь этот час ждал, чтобы хоть раз упомянули о земле. И никто – ни слова! Это, видите ли, не политика! Вот проклятье! Им бы только протирать брюки, чтобы удержаться на своем месте или добиться нового. Какая связь между их брюками и заботой о будущем страны? Никакой, ей-богу! При мысли о будущем страны ему неожиданно пришло в голову, что жена его сына до сих пор, по-видимому, никак этим будущим не озабочена. Два года! Пора им подумать о детях. Опасная привычка – не заводить детей, когда от этого зависят и титул и поместье. Улыбка тронула его губы и лохматые брови, похожие на путаные черные закорючки. Очень мила, удивительно привлекательна! И знает это сама! С кем только она не знакома! Львы и тигры, обезьяны и кошки – ее дом стал просто зверинцем для всяких больших и маленьких знаменитостей. Есть в этом что-то неестественное. И, глядя на одного из бронзовых британских львов на Трафальгар-сквер, сэр Лоренс подумал: «Скоро она и этого затащит к себе в дом! У нее страсть к коллекционированию. Майклу надо быть начеку – в доме коллекционеров всегда есть чулан для старого хлама, и мужьям легко попасть туда. Да, кстати: я обещал ей китайского посланника. Придется ей, пожалуй, подождать до окончания выборов».
В конце Уайтхолла, под сереющим на востоке небом, на миг появились башни Вестминстера. «Что-то нереальное даже в них, – подумал он. – А Майкл со своими причудами! Впрочем, это модно – социалистические убеждения и богатая жена. Самопожертвование и безопасность! Мир и процветание. Шарлатанское снадобье от всех болезней – десять пилюль на пенни!»
Миновав газетную сутолоку Чэринг-Кросса, обезумевшего от политического кризиса, сэр Лоренс повернул налево, к издательству Дэнби и Уинтера, где его сын состоял младшим компаньоном. Новая тема для книги только что зародилась в мозгу, уже подарившему миру «Жизнь Монтроза», «Далекий Китай» – книгу о путешествиях на Восток, и фантастический диалог между тенями Гладстона и Дизраэли, озаглавленный «Дуэт». С каждым шагом, уводившим сэра Лоренса от «Шутников» на восток, его прямая тонкая фигура в пальто с каракулевым воротником и худое лицо с седыми усами и черепаховым моноклем под темной подвижной бровью казались все более редким явлением. Но он стал почти феноменом в этом унылом переулке, где тележки застревали, словно зимние мухи, и люди проходили с книгами под мышкой, будто шли учиться.
Он почти дошел до дверей издательства, когда навстречу ему показались двое молодых людей. Один из них, конечно, его сын; он после женитьбы стал одеваться много лучше и, слава богу, курит сигару вместо этих вечных папиросок. А вот другой – ах да, поэт, любимец Майкла, был у него шафером – идет, закинув голову, велюровая шляпа, и лицо какое тонкое!
– А, Майкл!
– Алло, Барт. Ты знаком с моим родителем, Уилфрид? Это – Уилфрид Дезерт, автор «Медяков». Настоящий поэт, Барт, верно говорю! Непременно прочтите! Мы идем домой. Пойдемте с нами.
Сэр Лоренс повернул.
– Что нового у «Шутников»?
«Le roi est mort!»[2] Лейбористы уже могут начинать свое вранье, Майкл, – выборы назначены на следующий месяц.
– Барт вырос в те дни, Уилфрид, когда люди еще не имели понятия о Демосе.
– Скажите, мистер Дезерт, а вы-то находите что-нибудь реальное в нынешней политике?
– А разве для вас на свете есть что-нибудь реальное, сэр?
– Да, подоходный налог.
Майкл засмеялся.
– Кроме дворянского звания, нет ничего лучше простодушной веры.
– Предположим, твои друзья придут к власти, Майкл; отчасти это неплохо, они бы выросли немного, а? Но что они смогли бы сделать? Могут ли они воспитать вкус народа? Уничтожить кино? Научить англичан хорошо готовить? Предотвратить угрозу войны со стороны других стран? Заставить нас самих растить свой хлеб? Остановить рост городов? Разве они перевешают изобретателей ядовитых газов? Разве они могут запретить самолетам летать во время войны? Разве они могут ослабить собственнические инстинкты где бы то ни было? Разве они вообще могут что-нибудь сделать, кроме как переменить немного распределение собственности? Политика всякой партии – это только глазурь на торте. Нами управляют изобретатели и человеческая природа; и мы сейчас в тупике, мистер Дезерт.
– Вполне согласен, сэр.
Майкл пыхнул сигарой.
– Оба вы – старые ворчуны!
И, сняв шляпы, они прошли мимо Гробницы[3].
– Удивительно симптоматично – эта вот вещь, – заметил сэр Лоренс, – памятник страху… страху перед всем показным. А боязнь показного…
– Говорите, Барт, говорите, – сказал Майкл.
– Все прекрасное, все великое, все пышное – все исчезло! Ни широкого кругозора, ни великих планов, ни больших убеждений, ни большой религии, ни большого искусства – эстетство в кружках и закоулках, мелкие людишки, мелкие мыслишки.
– А сердце жаждет Байронов, Уилберфорсов, памятника Нельсону. Бедный мой старый Барт! Что ты скажешь, Уилфрид?
– Да, мистер Дезерт, что вы скажете?
Хмурое лицо Дезерта дрогнуло.
– Наш век – век парадоксов, – проговорил он. – Мы все рвемся на свободу, а единственные крепнущие силы – это социализм и римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве – это кино. Мы помешаны на мире – и ради него только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы.
Сэр Лоренс поглядел сбоку на молодого человека, говорившего с такой горечью.
– А как дела в издательстве, Майкл?
– Что ж, «Медяки» раскупаются, как горячие пирожки, и ваш «Дуэт» тоже пошел. Как вы находите такой новый текст для рекламы: «„Дуэт“, сочинение сэра Лоренса Монта, баронета. Изысканнейшая беседа двух покойников». Должно подействовать на психологию читателя! Уилфрид предлагал: «Старик и Диззи[4] – по радио из ада». Что вам больше нравится?
Но тут они оказались рядом с полисменом, поднявшим руку перед мордой ломовой лошади, так что все движение разом остановилось. Моторы автомобилей жужжали впустую, взгляды шоферов вперились в запретное для них пространство, девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Сэр Лоренс снова поглядел на Дезерта. Тонкое, бледное и смуглое лицо – красивое лицо, но какая-то в нем судорожность, как будто нарушен внутренний ритм; в одежде, в манерах – никакой утрировки, но все же чувствуется некоторая вольность; в нем меньше живости, чем в этом веселом повесе, собственном сыне сэра Лоренса, но такая же неустойчивость и, пожалуй, больше скептицизма – впрочем, он, наверно, способен на глубокие переживания! Полисмен опустил руку.
– Вы были на войне, мистер Дезерт?
– О да!
– В авиации?
– И в пехоте – всего понемногу.
– Трудновато для поэта!
– О нет! Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в Пэтни[5].
Бровь сэра Лоренса приподнялась.
– Разве?
– Теннисон, Браунинг, Вордсворт, Суинберн – вот кому было раздолье писать: ils vivaient, mais si peu[6].
– A разве нет третьего благоприятного условия?
– Какого же, сэр?
– Как бы это выразиться… ну, известное умственное возбуждение, связанное с женщиной?
Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело.
Майкл открыл французским ключом парадную дверь своего дома.
II. Дома
Дом на Саут-сквер, в Вестминстере, где поселились молодые Монты два года назад, после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать «эмансипированным». Его строил архитектор, который мечтал создать новый дом – абсолютно старинный, и старый дом – абсолютно современный. Поэтому дом не был выдержан в определенном стиле, не отвечал традициям и был свободен от архитектурных предрассудков. Но он с такой необычайной быстротой впитывал копоть столицы, что его стены уже приобрели почтенное сходство со старинными особняками, построенными еще Рэном. Окна и двери были сверху слегка закруглены. Острая крыша мягкого пепельно-розового цвета была почти что датской, и два «премиленьких окошечка» глядели сверху, создавая впечатление, будто там, наверху, живут очень рослые слуги. Комнаты были расположены по обе стороны парадной двери – широкой, обрамленной лавровыми деревьями в черных с золотом кадках. Дом был очень глубок, и лестница, широкая и целомудренно-простая, начиналась в дальнем конце холла, в котором было достаточно места для целой массы шляп, пальто и визитных карточек. В доме было четыре ванных – и никакого подвального помещения, даже погреба. Приобретению этого дома помогло форсайтское чутье на недвижимое имущество. Сомс нашел его для дочери в тот психологический момент, когда пузырь инфляции был проколот и воздух выходил из воздушного шара мировой торговли. Однако Флер немедленно вошла в контакт с архитектором – сам Сомс так и не примирился с этой категорией людей – и решила, что в доме будут только три стиля: китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские – единственная школа, которой еще не занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона на деньги Сомса, и не дешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль – вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места. Флер нужен был простор – ведь она коллекционировала скорее людей, чем мебель и безделушки. Свет, падавший через окна с двух противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флер часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как «подобрать» гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом; как казаться знатоком литературы и политики, как принимать подарки отца, не давая ему почувствовать, что его вкусы устарели; как удержать Сибли Суона, новую литературную звезду, и заполучить Гэрдона Минхо – старую знаменитость. Она думала о том, что Уилфрид Дезерт слишком серьезно увлекся ею; о том, в каком стиле ей, собственно, надо одеваться, о том, почему у Майкла такие смешные уши; а иногда она стояла, просто ни о чем не думая, а так, чуть-чуть тоскуя.
Когда трое мужчин вошли, она сидела у красного лакированного чайного стола, допивая чай со всякими вкусными вещами. Она обычно просила подавать себе чай пораньше, чтобы можно было как следует «угоститься» на свободе: ведь ей еще не было двадцати одного года, и в этот час она вспоминала о своей молодости. Рядом с ней, на задних лапах, стоял Тинг-а-Линг, поставив рыжие передние лапки на китайскую скамеечку и подняв курносую черно-рыжую мордочку к объектам своего философического созерцания.
– Хватит, Тинг-а-Линг! Довольно, душенька! Довольно!
Выражение мордочки Тинг-а-Линга говорило: «Ну, тогда и сама не ешь! Не мучай меня!»
Ему был год и три месяца, и купил его Майкл с витрины магазина на Бонд-стрит к двадцатому дню рождения Флер, одиннадцать месяцев тому назад.
Два года замужества не сделали ее короткие каштановые волосы длиннее, но придали немного больше решимости ее подвижным губам, больше обаяния ее карим глазам под белыми веками с темными ресницами, больше уверенности и грации походке; несколько увеличился объем груди и бедер; талия и щиколотки стали тоньше, чуть побледнел румянец на щеках, слегка утерявших округлость, да в голосе, ставшем чуть вкрадчивее, исчезла былая мягкость.
Она встала из-за стола и молча протянула белую круглую руку. Она избегала излишних приветствий и прощаний. Ей так часто пришлось бы повторять одинаковые слова – лучше было обойтись взглядом, пожатием руки, легким наклоном головы.
Пожав протянутые руки, она проговорила:
– Садитесь. Вам сливок, сэр? С сахаром, Уилфрид? Тинг и так объелся, не кормите его. Майкл, угощай! Я уже слышала о собрании у «Шутников». Ведь ты не собираешься агитировать за лейбористов, Майкл? Агитация – такая глупость! Если бы меня кто-нибудь вздумал агитировать, я бы сразу стала голосовать наоборот.
– Конечно, дорогая; но ведь ты не рядовой избиратель.
Флер взглянула на него. Очень мило сказано! Видя, что Уилфрид кусает губы, что сэр Лоренс это замечает, не забывая, что ее обтянутая шелком нога всем видна, что на столе – черные с желтым чайные чашки, она сразу сумела все наладить. Взмах темных ресниц – и Дезерт перестал кусать губы; движение шелковой ноги – и сэр Лоренс перестал смотреть на него. И, передавая чашки, Флер сказала:
– Что же, я недостаточно современна?
Не поднимая глаз и мешая блестящей ложечкой в крохотной чашке, Дезерт проговорил:
– Вы настолько же современнее всех современных людей, насколько вы древнее их.
– Упаси нас, боже, от поэзии! – сказал Майкл.
Но когда он увел отца посмотреть новые карикатуры Обри Грина, она сказала:
– Будьте добры объяснить мне, что вы хотели этим сказать, Уилфрид?
Голос Дезерта потерял всякую сдержанность.
– Не все ли равно? Мне не хочется терять времени на разъяснения.
– Но я хочу знать. Это звучало насмешкой.
– Насмешка? С моей стороны? Флер!
– Тогда объясните.
– Я хотел сказать, что вам присуща вся неугомонность, вся практическая хватка современников, но у вас есть то, чего лишены они, Флер, – способность сводить людей с ума. И я схожу с ума. Вы знаете это.
– Как бы отнесся к этому Майкл? Вы его друг!
Дезерт быстро отошел к окну.
Флер взяла Тинг-а-Линга на колени. Ей и раньше говорили такие вещи, но со стороны Уилфрида это было серьезно. Приятно, конечно, сознавать, что она владеет его сердцем. Только куда же ей спрятать это сердце, чтобы никто его не видел? Нельзя предугадать, что сделает Дезерт, он способен на странные поступки. Она побаивалась – не его, нет, а этой его черты. Он вернулся к камину и сказал:
– Некрасиво, не правда ли? Да спустите вы эту проклятую собачонку, Флер, я не вижу вашего лица. Если бы вы по-настоящему любили Майкла – клянусь, я бы молчал; но вы знаете, что это не так.
Флер холодно ответила:
– Вы очень мало знаете. Я в самом деле люблю Майкла.
Дезерт отрывисто засмеялся.
– Да, конечно; но такая любовь не идет в счет.
Флер поглядела на него.
– Нет, идет: с ней я в безопасности.
– Цветок, который мне не сорвать?
Флер кивнула головой.
– Наверное, Флер? Совсем, совсем наверное?
Флер пристально глядела перед собой; ее взгляд слегка смягчился, ее веки, такой восковой белизны, опустились; она кивнула.
Дезерт медленно произнес:
– Как только я этому поверю, я немедленно уеду на Восток.
– На Восток?
– Не так избито, как «уехать на Запад»[7]. Но в общем одно и то же: возврата нет.
Флер подумала: «На Восток? Как бы мне хотелось увидеть Восток! Жаль, что этого нельзя устроить, очень жаль!»
– Меня не удержать в вашем зверинце, дорогая, я не стану попрошайничать и питаться крохами. Вы знаете, что я испытываю, – настоящее потрясение.
– Но ведь это не моя вина, не так ли?
– Нет, ваша: вы меня включили в свою коллекцию, как включаете всякого, кто приближается к вам!
– Не понимаю, что вы хотите сказать!
Дезерт наклонился и поднес ее руку к губам.
– Не будьте злюкой, я слишком несчастлив.
Флер не отнимала руки от его горячих губ.
– Мне очень жаль, Уилфрид.
– Ничего, дорогая. Я пойду.
– Но вы ведь придете завтра к обеду?
Дезерт обозлился.
– Завтра? О боги – конечно, нет! Из чего я, по-вашему, сделан?
Он отшвырнул ее руку.
– Я не люблю грубости, Уилфрид.
– Ну, прощайте! Мне лучше уйти!
На ее губах трепетали слова: «И лучше больше не приходить», но она промолчала. Расстаться с Уилфридом? Жизнь утратит частицу тепла. Она махнула рукой. Он ушел. Слышно было, как закрылась дверь. Бедный Уилфрид! Приятно думать об огне, у которого можно согреть руки. Приятно – и немного жутко. И вдруг, спустив Тинг-а-Линга на пол, она встала и зашагала по комнате. Завтра! Вторая годовщина ее свадьбы! Все еще больно ей думать о том, чем могла бы стать эта свадьба. Но думать было некогда – и она не останавливалась на этой мысли. К чему думать? Живешь только раз, вокруг – люди, масса дел, многого нужно добиться, взять от жизни. Не хватает, правда, одного – ну, да впрочем, если у людей это есть, так тоже ненадолго! Слезы, набежавшие на ее ресницы, высохли, не скатившись. Сентиментальность! Нет! Самое тяжелое в мире – нестерпимая обида! А кого с кем посадить завтра? Кого бы позвать вместо Уилфрида, если Уилфрид не придет – вот глупый мальчик! Один день, один вечер – не все ли равно? Кто будет сидеть справа от нее, а кто слева? Кто изысканнее: Обри Грин или Сибли Суон? Может быть, они оба не так изысканны, как Уолтер Нэйзинг или Чарлз Эпшир? Обед на двенадцать человек – все из литературно-художественного мира, кроме Майкла и Элисон Черрел. Ах, не может ли Элисон привести к ней Гэрдона Минхо – пусть будет один из старых писателей, как один стакан старого вина, чтобы смягчить шипучий напиток. Он не печатался у Дэнби и Уинтера, но Элисон вполне его приручила. Флер быстро подошла к одному из старинных шкафчиков и открыла его. Внутри был телефон.
– Можно попросить леди Элисон?.. Миссис Майкл Монт… да, да. Это вы, Элисон? Говорит Флер. На завтрашний вечер Уилфрид отпадает… Скажите, не сможете ли вы привести мистера Гэрдона Минхо?.. Я с ним, конечно, не знакома, но, может быть, ему будет интересно… Попробуете? Ну, это будет просто восхитительно!.. Вы не находите, что собрание в «Клубе шутников» было страшно интересное?.. Барт говорит, что теперь, после раскола, они все там перегрызутся… Да, как же быть с мистером Минхо? Не можете ли вы дать мне ответ сегодня вечером? Спасибо, большое спасибо… До свидания!
А если Минхо не придет – кого тогда? Она задумалась над своей записной книжкой. В последнюю минуту удобно пригласить только человека без светских предрассудков; кроме Элисон, никто из родных Майкла не избежал бы едких насмешек Несты Горз или Сибли Суона. О Форсайтах и речи быть не может. Правда, они обладают своим особым кисло-сладким юмором (по крайней мере некоторые из них), но они несовременны, не вполне современны. Кроме того, она старалась встречаться с ними как можно реже. Они устарели, были слишком связаны с грустными воспоминаниями, они не умели воспринимать жизнь без начала и конца. Нет, если Гэрдон Минхо пролетит, придется пригласить какого-нибудь композитора, только чтобы его произведения были сплошной загадкой и напоминали хирургическую операцию; или еще лучше, пожалуй, позвать психоаналитика. Флер перелистала всю книжку, пока не дошла до этих двух профессий. Гуго Солстис? Пожалуй; но вдруг он захочет сыграть что-нибудь из своих последних вещей? В доме было только старое пианино Майкла, значит, пришлось бы перейти в его кабинет. Лучше Джералд Хэнкс: они с Нестой Горз погрузятся в толкование снов, но от этого общее оживление не пострадает. Значит, если не Гэрдон Минхо – пригласить Джералда Хэнкса, он, наверное, свободен, и посадить его между Элисон и Нестой. Она закрыла книжку и, вернувшись на свой ярко-зеленый диван, стала разглядывать Тинг-а-Линга. Выпуклые круглые глаза уставились на нее. Черные, блестящие, очень старые глаза. Флер подумала: «Я не хочу, чтобы Уилфрид ушел». Из всей толпы людей, снующих вокруг нее, ей никто не был нужен. Конечно, надо быть со всеми в прекрасных отношениях, надо быть в прекрасных отношениях с жизнью вообще. Все это ужасно занятно, ужасно необходимо! Только, только… что?
Голоса! Майкл и Барт идут сюда. Барт приметил насчет Уилфрида. Ужасно наблюдательный «Старый Барт». Ей всегда бывало не по себе в его обществе – он такой живой, непоседливый, но что-то в нем есть установившееся, старинное, что-то общее с Тинг-а-Лингом, что-то поучительное, вечно напоминающее ей о том, что она сама слишком суетна, слишком современна. Он как на привязи: может двигаться только на длину этой старомодной своей цепи; но он невероятно умеет подмечать все. Однако она чувствует, что он восхищается ею – да, да!
Ну, как ему понравились карикатуры? Стоит ли Майклу их печатать, и давать ли подписи или не надо? Не правда ли, этот кубистический набросок «Натюрморт» – карикатура на правительство – немыслимо смешной? Особенно старикан, изображающий премьер-министра! В ответ затрещала быстрая, скачущая речь: сэр Лоренс рассказывал ей о коллекции предвыборных плакатов, собранной его отцом. Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце: он был до того знатный и, наверно, ужасно скучный, – в особенности когда отдавал визиты верхом, в панталонах со штрипками! Он, и лорд Чарлз Кэрибу, и маркиз Форфар были последними «визитерами» в таком духе. Если бы не это, их забыли бы совершенно. Ей надо еще примерить новое платье и сделать двадцать дел, а в восемь пятнадцать начинается концерт Гуго. Почему у людей прошлого поколения всегда было столько свободного времени? Она нечаянно посмотрела вниз. Тинг-а-Линг лизал медный пол. Она подняла его: «Нельзя, миленький, фу, гадость!» Ну вот, чары нарушены. Барт уходит, все еще полный воспоминаний. Она подождала внизу у лестницы, пока Майкл закрыл за Бартом дверь, и полетела наверх. В своей комнате она зажгла все лампы. Тут царил ее собственный стиль – кровать, непохожая на кровать, и всюду зеркала. Ложе Тинг-а-Линга помещалось в углу, откуда он мог видеть целых три своих отражения. Она посадила его, сказав: «Ну, теперь сиди тихо!» Он давно уже относился ко всем остальным собакам в комнате совершенно равнодушно; хотя они были одной с ним породы и в точности той же масти, но у них не было запаха, их языки не умели лизать, – нечего было делать с ними, – поддельные существа, совершенно бесчувственные.
Сняв платье, Флер прикинула новое, придерживая его подбородком.
– Можно тебя поцеловать? – послышался голос, и двойник Майкла вырос за ее собственным изображением в зеркале.
– Некогда, милый мой мальчик! Помоги мне лучше. – Она натянула платье через голову. – Застегни три верхние крючка. Тебе нравится? Ах да, Майкл! Может быть, завтра к обеду придет Гэрдон Минхо – Уилфрид занят. Ты его читал? Садись, расскажи мне о его вещах. Романы, правда? Какого рода?
– Ну, ему всегда есть что сказать. Хорошо описывает кошек. Конечно, он немного романтик.
– О-о! Неужели я промахнулась?
– Ничуть. Наоборот, очень удачно. Беда нашей публики в том, что говорят они очень неплохо, но сказать им нечего. Они не останутся в литературе.
– А по-моему, они именно потому и останутся. Они не устареют.