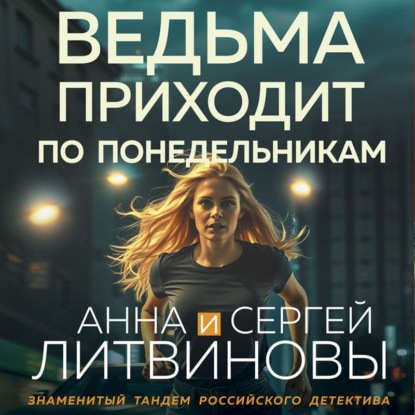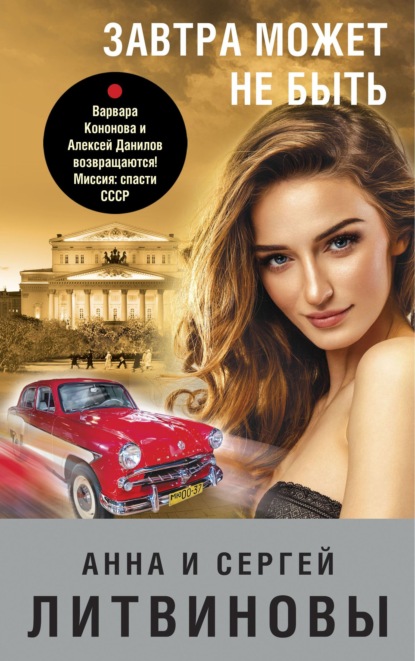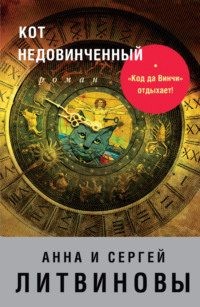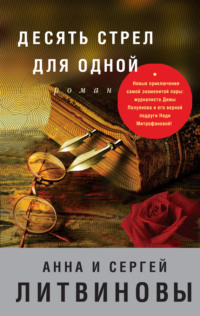Полная версия
Вспомнить будущее
А что, если – и тут она ощутила ледяной, давящий, тошнотворный, животный страх – у него уже нет денег? Что, если он разорился? Или разорится? Или, того хуже, у него появилась другая женщина, и он все, что у нас с ним есть, отдаст ей? Просто подарит? А что, я знаю, бывали случаи. Нет, нет, не надо об этом даже думать! Не надо! Разве ты не знаешь: если чего-то очень сильно боишься, оно всегда и происходит! Поэтому, пожалуйста, пожалуйста – не думай об этом: Миша меня любит, а если даже не любит, то живет все равно со мной. Пока – со мной. А значит, случись с ним что – я его жена, и я буду его вдова, и все станет – мое».
Она отогнала свой страх, подавила – словно из неприятной, скользкой воды вынырнула – и стала думать уже спокойнее:
«А если муж вдруг узнает про Павлика? Хотя он же знает, что Павлик когда-то у меня был, что я с ним жила – пережил ведь, не умер. И меня не убил. Поэтому и то, что я с ним встречалась сейчас – переживет. Ну, трахнулись по старой дружбе, да, главное из любопытства: помнит ли тело? Все ли осталось? Мишаня ведь не знает и не узнает никогда, как мне с Павликом хорошо было – и тогда, раньше, и в этот раз, – что он сам меня никогда настолько не пробивал, и, если Павлик вдруг снова позвонит и пригласит, я снова пойду. Хоть это и грех, и обман, и опасно очень, а все равно, оттого что грех, обман, опасность – еще даже ярче становится, круче, эффектней. Звезды, звезды, россыпь, фейерверки!
Нет, надо угомониться. О чем там этот экстрасенс спрашивал? Об открытке? Вот и нужно думать об открытке. Из какого города ее, и правда, посылали? Я ведь заметила – а забыла. Что-то немецкое. И еще там буква «р» в названии была. Может, даже в начале? Румпель? Рутберг? Розенштадт? Ротенберг? Или, наоборот, «р» в конце? Блюхер? Бамберг? Ламберт? Нет, черт, не помню. Помню, кирха, колокольни, штуки две или три, старые, готические. Помню почерк – написано вроде одной ручкой, а как будто два разных человека писали, адрес очень тщательно выписан, а сам текст – быстро-быстро. И непонятно, что означают слова про этот год и черед… Какая-то угроза, но странная, смутная, и почему Мишаня так испугался? Может быть, и те крики его той ночью с этим годом связаны, когда он метался и кричал – сроду никогда не кричал во сне, а тут вдруг на тебе: «Двадцать четыре! Почему двадцать четыре?!» Я его тогда разбудила, испугалась, пожалела – а может, зря, может, он бы еще что-нибудь выболтал про то, что скрывает? Но при чем здесь двадцать четыре? Если год – двадцать четвертый еще только будет, а сейчас год двенадцатый, чего бояться?»
Данилов
Много я не узнал – но закрыл свой ментальный шлюз. Нельзя злоупотреблять своими возможностями, да и непросто это – в чужие мысли и судьбу проникать, даже испросивши разрешения. Но главное я понял: гостья моя довольно искренна. Против мужа она ничего не злоумышляет и реально за него боится. А Павлик – что такое по нынешним разгульным временам значит тот Павлик!
Впрочем, я не удержался от возможности поразить клиентку и продемонстрировать собственные силы. Когда мы прощались с госпожой Нетребиной, небрежно бросил:
– И поосторожней с Павликом. Не приведи господь, муж узнает!
И, не обращая внимания на ошеломленно округлившиеся глаза визитерши, выпроводил ее за дверь. Немного по-мальчишески, я согласен. Впрочем, чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что во взрослых людях мальчишеского и девчоночьего на деле гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Обычно я решаю проблему клиента сразу, во время сеанса. Говорю, где находится, допустим, потерянное колечко, куда сбежал из дома строптивый сын-подросток, с кем проводит субботы ветреный муж.
Однако с Нетребиной все оказалось непросто. Я пытался сконцентрироваться, вырвать у высших сфер ответ на ее вопрос: что происходит с ее супругом – но решительно ничего не видел. Чувствовал лишь одно: безделушки в крови, загадочная открытка – вовсе не глупые шутки какой-нибудь секретарши, обиженной невниманием (или излишним вниманием) шефа. В посланиях Нетребину явно имелся смысл. Глубоко скрытый, зловещий.
Я не люблютащить работу в постель, но сегодня мне ничего не оставалось. И прежде чем лечь спать, я применил простейший прием: долго думал о деле Нетребиной. Неведомые силы, что мне помогают, обычно понимают намек. И присылают – во сне – если не разгадку, то хотя бы направление, куда двигаться.
Однако настало утро, а я по-прежнему не выбрался из тупика.
Да что там: я запутался еще больше! Потому что единственное, что осталось после ночных грез, были цифры. Ряд из четырех чисел: 40, 64, 88, 12.
Сначала я вообще не понял, в чем заключается смысл последовательности. Однако на помощь пришла логика. В мозгу услужливо промелькнул странный стишок с открытки. Как там: «Твой черед, настал твой год?» А сейчас как раз двенадцатый на дворе. Последнее число в том ряду, что мне приснился.
Я задумался. Получается, послание высших сил – связано с датами? В нынешнем, 2012-м, – странныезнаки судьбы преследуют бизнесмена Нетребина. Надо будет спросить у его жены: происходило ли что-то роковое в его семье – в предвоенном сороковом? Оптимистичном шестьдесят четвертом? Перестроечном восемьдесят восьмом?..
Я углядел и еще одну закономерность: временной промежуток. Все даты были разделены одинаковыми отрезками – в двадцать четыре года. Вспомним кошмарный сон Нетребина. Алина Григорьевна рассказывала, он во сне кричал: «Почему двадцать четыре?»
Но что все это могло означать?
Я решительно не понимал.
А через два дня утренние новости сообщили мне о том, что вчера около полуночи на ***ском бульваре в Москве был убит бизнесмен, владелец фирмы «Бриллиантовый мир» Михаил Юрьевич Нетребин.
1940. Нетребины
У Темы и Степы Нетребиных было такое детство – дай бог любому мальчику в советской стране подобного. Голода и других ужасов военного коммунизма они почти не помнили, потому как, когда пришла революция, Великая Октябрьская, она же социалистическая, старшему, Степе, минуло три годика, а младшенькому, Теме, год. Соответственно когда мальчики стали себя осознавать, тут и жизнь начала налаживаться. А кошмары пролетарской революции – выселения, подселения, уплотнения – их семьи не коснулись. И жили они в четырехкомнатной квартире в центре города, и на столе всегда, в самые тяжелые годы, были белые булки, коровье масло и курица в супе. Были прислуга Пелагея, громадная библиотека, кабинет отчима и даже своя собственная комната – детская.
А все потому, что мама и отчим были врачами. И важнее даже, что были они не просто врачами, а (как Степа понял гораздо позже) врачами-гинекологами. Потому что новая элита, партийная да советская, еще вчера голытьба, невежественный пролетариат, испытывала почти религиозный, мистический страх перед докторами. Однако они, эти товарищи Климы и Васьки, Кобы и Йосики, все-таки готовы были ради торжества революционной законности расстрелять даже лекаря. И в отсутствие настоящего эскулапа обходиться «фершалом» или бабкой – когда речь шла о собственном переломе или поносе, грыже или геморрое. Но вот их супружницы, Маньки, Парашки и Глашки, которые еще вчера стирали исподнее в корытах и рожали в стогах, теперь, ставши барынями, требовали соответственного к себе отношения. И рожать тоже захотели, как барыни: в стерильных палатах, под присмотром врача в пенсне, а не повитухи с красными руками. А иные даже начинали заказывать, чтобы им, как заграничным штучкам, делали операции по прекращению нежелательной беременности. Или, напротив, проводили процедуры для наступления беременности желательной. И потому ни одна из этих Манек и Глашек не могла допустить, чтобы ее Клим, Васек или Йосик, ставший председателем красносаженского губисполкома или членом бюро губкома, тронул бы хоть чем или ущемил врача Павла Андреевича Ставского и жену его Марью Викторовну Нетребину.
Вот и росли Артем и Степан Нетребины, как никто в их городе, ни один мальчик в Красносаженске (в прошлом Екатеринограде) не жил – включая даже Володю Крамского, сына председателя областного исполкома. Потому что Клима Крамского вычистили в тридцать первом из партии – скрыл, мерзавец, что дядюшка у него был сельским попиком. А в тридцать седьмом его вовсе посадили и дали десять лет без права переписки, и жена, Глафира Крамская, также осуждена была как жена врага народа – и плакала роскошная Володина квартира, прислуга и персональный автомобиль, отвозивший мальчика в школу. Слава богу, Володьку в детдом не забрали, пусть спасибо скажет, родственники со стороны жены отбили, приютили, чуть не усыновили.
Но Нетребиных-старших чистки, высылки, уплотнения и аресты за все годы советской власти ни разу не коснулись. Мальчикам даже в вузы удалось поступить безо всяких препон, каковые ставились на пути тех, кто не из рабочих, не из крестьян, а из бывших или интеллигенция – баре, одним словом. Влияние отчима Ставского и мамы, правда, не простиралось до Москвы, Ленинграда или хотя бы до Киева с Харьковом. Оно вообще не распространялось за пределы родного Красносаженска и Красносаженской области – но Степе с Темой того хватило.
В их городе советская власть, одержимая идеей донести свет просвещения до каждого пролетария и крестьянина, создала три (как она называла)вуза, или высших учебных заведения: медицинский, политехнический и строительный. Прямая дорога Теме и Степе была в медицинский, где отчим с матерью совместными усилиями держали кафедру, – однако оба мальчика отказались наотрез. В них чуть ли не с пеленок жил атавистический ужас перед анатомическим подробным атласом и животастыми бабами, приходившими к маме и отчиму домой на частный прием. Вот и выбрал старший, Степа, химию, а младшенький, Тема, – строительство.
Тогда, в тридцать первом, когда в вуз поступал Степа, и в тридцать третьем, когда подошла Темина очередь, трудно уже было молодому человеку прожить и в советскую идеологию не вляпаться. А тем паче позже, когда они учились, а давиловка со стороны партии и правящих классов только нарастала. Приходилось являться на митинги, куда ходили все, единогласно требовать казни, допустим, бухаринско-рыковским шпионам и изменникам Родины, троцкистскому подполью и прочим выродкам и прихвостням. Или слать трудовой привет стахановцам. Или, к примеру, поддерживать единогласно борьбу германских коммунистов против фашизма. Вот и Степа с Темой поддерживали кого нужно, приветы кому положено слали и даже, увы, требуемые казни одобряли. Словом, делали все, чтобы из общей массы советского студенчества не выделяться. Но, к примеру, в комсомол они не вступали – тем более перед войной быть комсомольцем еще считалось не обязаловкой, но привилегией, которую заслужить надобно. Работы общественной они также никакой не вели и без нужды на темы политики не высказывались. И в итоге, когда на митингах все голосовали против троцкизма или фашизма (или «за» Тельмана или Стаханова), руки свои вверх они послушно поднимали. Но наперебой их: «Дайте я скажу! Дайте я!» – не тянули.
В городе Красносаженске еще сохранялась прежняя профессура – более того, в тамошних институтах даже привечали высланных из Москвы и Ленинграда старых спецов. Уровень образования был высок, почти даже сопоставим с дореволюционным. А Тема со Степой в своих вузах блистали. Сыграли роль домашнее воспитание, громадная библиотека – да и предки, как бы ни отрицал марксизм влияние фактора наследственности. Все ж таки, что ни говорите, имело значение, что четыре поколения их пращуров физического труда не знали и снискивали себе хлеб насущный как врачи, учителя, профессиональные военные, в крайнем случае приказчики.
Степа, старший, стал любимым учеником профессора Малина – тот, как ни больно ему было расставаться с воспитанником, порекомендовал юношу в Ленинград, в аспирантуру главной химической лаборатории.
В тридцать шестом году молодой человек прибыл в город на Неве и впервые вплотную столкнулся с тяготами социалистического быта: «хвостами» за продуктами, утренними очередями в ванную комнату, давкой в трамваях. Но пока он занимался своей любимой химией и черпал в ней вдохновение, старался не замечать неудобств и бремени быта. Что у нас сегодня на ужин? То же, что и на обед? Картошка, жаренная без масла на раскаленной сковороде? Ну и что, лишь бы брюхо набить, как говорят пролетарии, и скорей в лабораторию, к своим ретортам и реактивам!
А младшенький, Тема, вообще учудил: после окончания строительного вуза попросил распределения на Колыму! И мама, и отчим не раз приступали к нему с вопросами: зачем ему Север? Дальние края? Плохо, что ли, ему живется в родном Красносаженске? Если тесно стало с мамой и отчимом, охотно допускаем, юноше нужна самостоятельность – почему бы не отправиться к старшему брату в Ленинград? Ведь ты, Тема, отличник, первый на курсе, сам можешь выбрать распределение! Может быть, дело в деньгах? Мы понимаем: северная надбавка, двойной оклад и прочие привилегии. Но мы ведь и так тебе, Тема, ни в чем не отказываем. Да и на что можно потратить деньги в советской стране? В ресторанах разве что прогулять.
Тема даже самым близким объяснить не мог, что, как он ни чурался, его все же накрыла волна советского энтузиазма: полярники, рекорды, стахановцы, «Челюскин», Северный морской путь и прочая. Он стремился проверить себя на излом, на сгиб и кручение – и не знал, что жизнь и без того приготовила ему впереди достаточное испытание, необязательно было специально стремиться. И Тема уехал в Магадан – с одной сменой белья, справочником по сопромату и логарифмической линейкой. А спустя три года вернулся: повзрослевший, загоревший, заматеревший, задубелый. И первым делом, не навестив даже родного Красносаженска, отправился в Ленинград к брату.
И вот здесь, над полной и быстрой Невой, на мосту Лейтенанта Шмидта, встречаем мы в июне тысяча девятьсот сорокового года обоих братьев – Степана и Артема Нетребиных.
А еще вместе с ними третий – закадычный друг Степана, ставшего почти ленинградцем, – Александр (или как его называют коротко Шура) Заварзин. Шура учился в одной школе с братьями в Красносаженске, потом поступил в Ленинградский университет (он рабочая косточка, барьеров ему не чинили), а когда окончил, сызнова встретился в бывшем граде Петра со Степой. Дружба у них сплелась по новой, да так, что стали они неразлейвода. Хоть Заварзин и инженером был, машиностроителем, Нетребин его в свою лабораторию перетащил: им ведь тоже экспериментальные установки надо делать, центрифуги и прочие устройства мастерить.
Артем сейчас даже взревновал немного, видя, что его место, младшего брата, во время его отлучки на Колыму не пустовало – его благополучно занял Заварзин. И они со Степой весело между собой переглядываются и улыбаются каким-то понятным только им шуткам. Заварзин явно ведомый в их дуэте – значит, теперь эта роль занята? Стало быть, у них теперь образовалось трио, и Артему предстоит в нем исполнить какую-то новую партитуру? Может быть, судьба теперь предназначает Теме место вожака? Вон, он и внешне, и физически выглядит куда как мощнее и старшего брата, и Шуры Заварзина. Ленинградцы, правда, как это принято среди современной советской молодежи, уделяют внимание физической подготовке, но мускулы, крепость (и, кажется, воля) у младшего брата, приехавшего с Колымы, все же сильнее будут.
– Ну, не грусти! – шлепает брата между лопаток Степан. Он по своему истолковал задумчивость Темы. – И ты войдешь в курс городской жизни. Не все же тебе медведем в тундре жить. Надо, брат, и расти культурно, развиваться. Посещать театры, музеи, кинематограф…
– …водные станции, – с иронической ухмылкой добавляет Заварзин, и оба горожанина покатываются от хохота. Видимо, с упомянутым объектом культуры у Степы с Шурой связана какая-то юмористическая история.
– Да, братишка, на водной станции мы тут в прошлую семидневку наблюдали настоящий цирк. Пошли туда вместе вот с Александром и Валерием. Ты его не знаешь, мы вас познакомим, в сущности, он хороший парень, работает в нашей лаборатории, только болтливый сверх меры и чуточку хвастун. Так вот, пока ехали туда, на трамвае, да с пересадкой, Валера, не переставая, хвастался, каких он успехов достиг в нырянии в воду и какие умеет замечательные пируэты выписывать. А как приехали да поднялись на вышку – что-то, смотрю я, Валерик наш побледнел, к краю не подходит, а, наоборот, бочком-бочком отступает от ужасной бездны. Тут Саня изобразил, что сейчас в воду его столкнет – так Валерочка бедный на глазах у всего честного народа – сбежал! И потом выписывал свои пируэты – да только внизу, прыгая с бортика. Скорее уж даже в воде стоя их показывал, не в воздухе!
Стоял прекрасный июньский день – да такой, что за него можно простить Петербургу все его темные декабрьские переулки с влажным ледяным ветродуем. Солнце искрилось на золоте Исакия, отзывалось на шпиле Адмиралтейства и Петропавловки. Невская вода хоть и оставалась, в сущности, темной, смурною – а все ж таки даже она не могла сдержаться, взыгрывала волной, посверкивала зайчиками. А главная радость заключалась в том, что парни знали, что светило будет сиять и час спустя, и пять. И даже вечер наступит – десять, одиннадцать часов, а оно все будет золотиться, и лишь ненадолго скроется – а спустя пару часов опять взойдет. Так и жизнь в двадцать пять лет кажется впереди сияющей и почти что бесконечной.
– А у меня, брат, еще новость, – продолжил, обращаясь к Артемию, Степан. – Да такая, что ты закачаешься. Я не стал уж тебе писать, знал, что ты скоро со своей Колымы приедешь. Я ведь, братик мой, женюсь. Все решено и подписано.
– Вот так штука! – воскликнул Артем. – На ком же? Кто она, та счастливица, что захомутала моего братика?
– Прекрасная дивчина, – важно кивнул Заварзин. – Зовут Елена. Елена Прекрасная по фамилии Косинова.
– Ты же знаешь, Тема, я словесную эквилибристику выписывать не умею, скажу тебе кратко, с прямотой римлянина: мы с ней работаем в одной лаборатории. Она пока что лаборант, однако учится на вечернем и скоро оканчивает. Лет ей двадцать один. Что еще? Сообразительна. Хорошие внешние данные. Готовит прекрасный борщ.
– Пальчики оближешь, – со знанием дела подтвердил Шура.
– Я вас скоро познакомлю. Да что там – скоро! Сегодня вечером она в своем институте – а завтра я тебя ей представлю. Только имей в виду, она боится тебя ужасно, как будто ты не младший мой братишка, а богатый дядюшка и можешь нас, если она тебе не понравится, лишить наследства.
Заварзин прыснул.
– Нет, серьезно, – продолжил Степа, адресуясь к Артему, – она тебя заочно ужасно уважает. Видимо, ты ей представляешься героем Джека Лондона. Что-то такое байроническое. И дум высокое стремленье. В общем, ты со своим колымским приключением заочно влюбил в себя всех девушек Ленинграда. Во всяком случае, Еленины подруги о тебе наслышаны…
– …И горят нетерпением познакомиться, – с серьезной миной заключил Заварзин.
– Что ж! – залихватски воскликнул Артем. – Во всяком случае, повестка дня на завтра решена: знакомство с Еленой и другими нежными девами. А пока, товарищи, я приглашаю вас в ресторан. Денег, как вы сами понимаете, я заработал много, теперь мы можем ходить в рестораны хоть каждый день. Какой тут у вас, в Ленинграде, лучший?
Заварзин и Степан переглянулись.
По-своему истолковывая их нерешительность как скромность, Тема заключил:
– «Метрополь»? Или, говорят, «Астория»? Значит, вперед, в «Асторию»!
В тот день настроение всех троих последовательно прошло ступени, какие проходят друзья-мужчины, повстречавшись после долгой разлуки. Сперва – восторг, потом – предвкушение шутки, подначки, розыгрыши, забавные истории. Затем – пересуды о женщинах. И, наконец, толковище о серьезном. Они были далеко не столь наивны, чтобы вести беседы о политике прямо за столиком «Астории» (куда они, разумеется, отправились). Они даже в коммуналке наВаське (то есть Васильевском острове), где проживал Степан и где временно поселился Артем, не позволили бы себе ничего лишнего. Мало ли! Есть соседи, да ведь и стены, говорят, имеют уши. А вот покуда шли в белесой питерской мерещи, торопясь из ресторана на своего Ваську до разведения мостов – на улицах никого, почему бы не поговорить откровенно. Тема со Степой братья – а Заварзин? Что – Заварзин! Он – друг, с ним Степа здесь, в Питере, столько пудов соли съел, он ему доверяет даже больше, чем брату.
– Товарищи, – спросил Тема, – а вы не знаете, куда делась Наталья Кузьмина? Та самая, моя однокурсница из Красносаженска? Мы с нею так мило переписывались, даже график завели: раз в неделю каждый пишет письмо. И вдруг: ни привета ни ответа. Я ей три письма направил. Думал, может, я обидел чем? Пошутил неудачно? Тишина!
Степан и Заварзин разом посмурнели, стали прятать глаза.
– Что, что с ней случилось, говорите?!
– Тема, ее взяли.
– Что?!
– Да, всю их семью, вместе с родителями. Наша мама два месяца назад приезжала в Ленинград на слет и рассказала. Да, забрали всех: и отца, и мать, и Наташу, и даже их домработницу.
– Кошмар! – проговорил Артем. – Какой ужас! И их – тоже! Да разве вы не видите, товарищи! Наташка Кузьмина – она, что ли, заговорщик? Троцкистка? Шпион?!
Друзья не откликнулись, и какое-то время все трое шли молча.
– Нет! – продолжил Тема. – Мы не можем просто так сидеть и ждать.
– А что ты предлагаешь? – спросил Степан. – Драться с ними? Бороться?
– Боюсь, не получится, – покачал головой Тема. – Силы у нас не те. Но и отсидеться сложа руки тоже не получится.
– Почему?
– Потому что каждый день – аресты. И берут – лучших. Вы не замечали? Вы разве не видите? Нами правят натуральные бандиты. Уголовники. Они захватили власть в стране и теперь измываются над Россией и над всеми нами как хотят.
– Круто берешь. – Степа аж крякнул. – Не боишься?
Он подобные разговоры за всю свою жизнь только однажды слышал – от мамы с отчимом, и то тайком, когда они шептались, думая, что Степа спит.
– А чего мне бояться, братик? – ответствовал Артем. – Дальше Колымы все равно ведь не сошлют.
– Ссылка, к сожалению, – с грустной полуулыбкой молвил Заварзин, – еще не самая строгая мера наказания.
Степа задумчиво покивал на ходу.
– Знаете, какие там, на Колыме, люди? Просто прекрасные. Лучшие. С кем, вы думаете, я там работал? Кто у нас на Севера́х дороги-то строит? Таких, как я, вольняшек, всего двое и было. А остальные – расконвоированные. Самые умные. Самые чистые. Образованные. Тонкие. Кстати, расконвоируют – это привилегия, ее дают только потому, что все равно никуда не убежишь. А сколько тех, кто за колючкой сидит! Сколько еще не доехало до Колымы! Сколько в других местах. Чертовых дыр в Советском Союзе много. А сколько умерло. В тюрьмах, лагерях. Сколько народу расстреляли. Знаете, друзья, я думаю, они обезумели…
– Кто? – переспросил, не поняв, Степан.
– Наши правители. Там, наверху. В Кремле.
– Да, мою лабораторию пока бог миловал, – задумчиво проговорил Степа, – а у соседей, в одиннадцатой, взяли всех: завлаба, обоих заместителей, трех научных сотрудников. Троцкисты, говорят, они и шпионы. Всем дали десять лет без права переписки.
– А «десять лет без права переписки» – это что значит? – подхватил Тема. – Это значит «расстрел». Уж меня там просветили, я никаких иллюзий на сей счет не питаю. Что ж мы все так и будем – сидеть и покорно ждать, пока за нами придут?
– Ну, без вины-то, наверное, не сажают, – осторожно заметил Саня.
– Еще как сажают! – воскликнул Артем. – Именно что без вины. С такими смехотворными обвинениями берут. Мне многие рассказывали, кому посчастливилось, кто после следствия выжил: мы, дескать, специально в самых невероятных вещах признавались – например в шпионаже в пользу Трои, – чтобы хоть наверху разглядели, что «энкавэдэшники» глупость с нами творят. Может, думали, поправят ретивых исполнителей? Назад отыграют? Нет, никто никого не поправляет. Признался в шпионаже в пользу Трои – хорошо. Готовил покушение на писателя Горького с помощью дирижабля – тоже сойдет. Такое ощущение, что нас, русских, кто-то специально старается уморить, выбить. Как будто фашисты у нас на самой верхушке засели и режут по живому!
– Я понимаю твой пафос, – проговорил Нетребин-старший, – только ты же сам сказал: драться, бороться с ними бесполезно. Что мы-то можем сделать?
Младший Нетребин помолчал минуту. Они по диагонали пересекали Дворцовую площадь, торопясь к Дворцовому мосту. Площадь, с Александрийским столпом посредине, была пуста в полусумерках летней ночи, только маячил возле стены Адмиралтейства постовой в белой гимнастерке. Мимо пронеслась черная «эмка».
– Здесь мы ничего не сделаем, – весомо проговорил Артем. – Нам надо бежать.
– Как бежать? Куда? – переспросил Степан.
– Через границу. Из страны. Так поступить многие хотят. Кое-кто рискует, пытается. Кое у кого получается. Вот и мы рискнем.