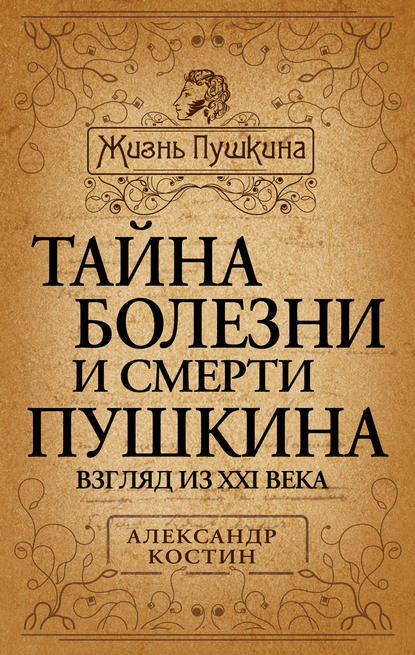Полная версия
Тайна Дантеса, или Пуговица Пушкина
Константин Карлович Данзас, друг Пушкина, вспоминал:
«Снабженный множеством рекомендательных писем, молодой Дантес приехал в Россию с намерением вступить в нашу военную службу. В числе этих писем было одно к графине Фикельмон, пользовавшейся особенным расположением покойной императрицы. Этой-то даме Дантес обязан началом своих успехов в России. На одном из своих вечеров она представила его государыне, и Дантес имел счастье обратить на себя внимание ее величества… В то время в Петербурге был известный баталический живописец Ладюрнер… Покойный государь посещал иногда его мастерскую, находившуюся в Эрмитаже, и в одно из своих посещений, увидя на полотне художника несколько эскизов, изображавших фигуру Людовика Филиппа (более поздний источник утверждает, что это были карикатуры), спросил Ладюрнера: «Это не вы, случайно, развлекаетесь подобными работами?» – «Нет, государь! – отвечал Ладюрнер. – Это мой соотечественник, легитимист, как и я, господин Дантес». – «Ах, Дантес, я его знаю, императрица говорила мне о нем», – сказал государь и пожелал его видеть. Ладюрнер вытащил Дантеса из-за ширм, куда последний спрятался при входе государя. Государь милостиво начал с ним разговаривать, и Дантес, пользуясь случаем, тут же просил государя позволить ему вступить в русскую военную службу. Государь изъявил согласие».
И на сей раз было бы соблазнительно подумать о мягком вмешательстве Судьбы, но графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посланника в Петербурге, до января 1834 года не давала балов и приемов, которые почтили бы своим присутствием их императорские величества. Даже в обычное время она вела тихий образ жизни, и зимний сезон еще не открылся, когда она в начале ноября 1833 года оплакивала преждевременную смерть своей кузины Адели Стакельберг; посланный Провидением ожог на ноге также предоставил ей удобный предлог продолжать скрывать от света свое удрученное сердце. Таким образом, знакомство с императрицей, которое вспоминает Данзас, могло произойти только позже, когда Дантес уже готовился к экзаменам для вступления в русскую армию. Должно быть, кто-то ошибается, или что-то забывает, или что-то путает, и теперь ход событий принимает неясные и смазанные контуры легенды. Тем не менее в любом случае сверкающий ореол звездной пыли начинает исходить от Жоржа Дантеса, навсегда согретого теплым дыханием благоприятных ветров. Истинно, этот человек родился в рубашке.
В отличие от своего молодого протеже, барон Якоб Дерк Анне Борхард ван Геккерен-Беверваард, направленный в Петербург в 1823 году в качестве поверенного в делах, а затем посланника Нидерландов, не был так единодушно принят; многие боялись его ядовитого языка и неискренней интриганской натуры. Долли Фикельмон писала о нем: «Здесь его считают шпионом Нессельроде (министра иностранных дел России), догадка, которая дает самое ясное представление о его личности и характере». И после того, как узнала его лучше: «Я не могу не признать, что он неприятен, по крайней мере, в своих речах, но я желаю и надеюсь, что все, что говорят о нем в обществе, несправедливо… Хотя я считаю его человеком опасным для общества, мне льстит его присутствие в моем салоне».
Портрет Геккерена, нарисованный графиней Фикельмон, является самым благосклонным из всех дошедших до нас русских мнений. После смерти Пушкина кольцо ненависти и презрения замкнулось вокруг голландского посланника: «эта старая змея», «человек хитрый, расчетливый еще более, чем развратный», «человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, которые его проникли», «низенький старик, всегда улыбающийся, отпускающий шуточки, во все мешающийся», «замечательно безнравственный человек», «известный своим распутством, окружавший себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части».
Лоб с залысинами, невыразительные бледные глаза, греческий профиль, чувственные губы, широкая бородка, узкие плечи, худощавое телосложение. Ни жены, ни известных отношений с женщинами. Изысканные, безупречные манеры; элегантный и воспитанный, он был знаток музыки и хороших книг. Его дом на Невском проспекте – «крошечная миниатюра, но жемчужина элегантности» – был наполнен картинами известных художников, скульптурами, антиквариатом, серебром, бронзой, хрусталем, гобеленами. Его высоко ценили в салонах: «Он рассказывал самые занимательные истории и бывал награжден общим сердечным смехом». Он был частым гостем цвета петербургской аристократии. Вылощенный и проницательный, равно внимательный как к важнейшим историческим событиям, так и к самому тихому салонному шепоту, он находил самые разнообразные и конфиденциальные источники, впитывал все, что могли вместить его большие гибкие уши, и включал все это в свои отчеты в Гаагу. У него было эластичное представление о правде, и ничто из того, что он говорил, «не считалось содержащим хоть намек на искренность». Хотя ему в октябре 1833 года исполнилось только 43 года, все называли его «стариком». Сам Пушкин однажды грозил: «С сыном все кончено. Теперь мне старичка подавайте».
Так или иначе, где-то в Европе, в какой день – точно неизвестно, этот желчный и едва ли мягкосердечный человек «роковым» образом вторгся в жизнь Жоржа Дантеса, французского «милого ребенка», который оказался впоследствии смертельным ядом для России. Самым важным для Дантеса была финансовая поддержка Геккерена, поскольку сотня луидоров в год, посылаемых Дантесу его отцом, никак не могла покрыть огромных представительских расходов, которые требовались от любого члена престижной элитной когорты кавалергардов, большинство которых составляли отпрыски знатнейших и богатейших семейств российского дворянства. В общем, Дантес не мог позволить себе никакой роскоши в первые дни своего пребывания в Петербурге и появлялся на публике в не совсем приличном, вышедшем из моды наряде: длинном черном сюртуке поверх серых панталон с красным кантом.
Но у госпожи Удачи были могущественные подручные в виде рекомендательных писем. 5 января 1834 года граф Адлерберг писал Жоржу Дантесу:
«Сегодня генерал Сухозанет сообщил мне, дорогой барон, что он намерен проэкзаменовать вас сразу после Крещения и что он надеется, что вы сдадите экзамен за одно утро при условии, что все профессора будут в этот день не заняты. Генерал подтвердил мне, что уже просил господина Геккерена сообщить, где вас можно найти, чтобы немедленно оповестить, как только великий день будет назначен; хорошо было бы, если бы вы встретились с ним и получили все разъяснения. Он также обещал мне, что не будет слишком строг, как говорится, однако не слишком полагайтесь на это, не забудьте повторить все то, что вы учили, позаботьтесь о том, чтобы они заметили вашу начитанность…
P.S. Император спрашивал меня, учите ли вы русский. Я решил, что лучше ответить «да». Рекомендую вам найти учителя русского языка».
27 января 1834 года Жорж Дантес сдал вступительные экзамены. Освобожденный от экзаменов по русской словесности, военному судопроизводству и уставу, он сообразительностью компенсировал пробелы в образовании. Говорят, что, когда его спросили, какая река протекает через Мадрид, он признался, что не знает, но вызвал улыбку на строгих лицах членов комиссии, добавив: «И подумать только, я купал там свою лошадь!» 8 февраля он был произведен в корнеты Кавалергардского полка, а шесть дней спустя – зачислен в седьмой резервный эскадрон.
26 января 1834 года Пушкин писал в своем дневнике: «Барон д’Антее и маркиз де Пина, два шуана – будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Вероятно, это случилось вскоре после того, как они познакомились, возможно, когда Пушкин, обедая с Данзасом в известном петербургском ресторане, сидя за табльдотом, оказался рядом с молодым французом. Но пока оставим их у Дюме, в веселой и беззаботной мужской компании, не подозревающих о той ненависти, которая разделит их позже, и смакующих кровавый ростбиф, трюфели и страсбургский паштет. Перемотав вперед пленку, давайте рассмотрим судьбу этих двух шуанов на русской земле. Маркиз Пина никогда не служил в гвардии, а служил в Замошском стрелковом полку, откуда его выгнали за кражу серебра. А Дантес был лишен звания и выслан из России за пролитие крови самого чистого ее певца, лишив страну ее солнца.
«Государыня пишет свои записки… Дойдут ли они до потомства?» – спрашивал Пушкин. И в самом деле, часть мемуаров Фредерики-Луизы-Шарлотты-Вильгельмины Прусской, должным образом переименованной в Александру Федоровну после венчания с Николаем Павловичем Романовым 1 июля 1817 года, сохранилась вместе с ее дневниками – крошечными блокнотами, испещренными немецкими каракулями, тайное прибежище нежной души, погруженной в радостное ликование, покрытое многочисленными розовыми вуалями, защищавшими ее от реального мира. Одна из многих немецких императриц, всходивших на русский трон, она была красавицей-блондин-кой, чья воздушная грация поражала самого Пушкина: «Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уже тридцать пять лет и даже тридцать шесть». Те, кто хорошо ее знали, смотрели на нее как на девочку, впервые столкнувшуюся с жизнью: она имела невинное врожденное чувство неведения зла и «говорила о несчастьях как о мифе». Она любила нравиться и наивно флиртовала с мужчинами. Она обожала танцевать. Она танцевала ночи напролет, подвергая опасности свое хрупкое сложение, великолепно двигаясь, подобно воздушному сильфу, созданию, парящему между небом и землей, Tochter der Luft, «дочь воздуха».
Дневникам танцующей императрицы мы обязаны упоминанием о событии, которое, по всей вероятности, и было дебютом кавалергарда Жоржа Дантеса в петербургском высшем обществе: «28 февраля 1834 года… В 10.30 мы приехали к Фикельмонам, где я переоделась в комнате Долли в белое платье с лилиями, очень красивыми… мои лилии скоро завяли. Дантес[3] продолжал смотреть на меня». Был ли Дантес настолько дерзким, чтобы бросать на царицу долгие взгляды? Была ли она также очарована этим опасным для женщин взором? Можно опустить это нечистое предположение. Дело в том, что сердце Александры Федоровны билось неровно (но целомудренно и невинно) при виде другого молодого офицера гвардии. Ее, вероятно, поразило восхищенное изумление, восхищенный блеск этих больших голубых глаз, устремленных на нее, на Николая I (казавшегося еще более высоким и внушительным в своей австрийской гусарской форме) и на блестящую толпу гостей, разукрашенную драгоценностями и звездами, – совсем новый мир, теперь великодушно открывающий перед молодым иностранцем свои двери.
Имя Жоржа Дантеса, хотя и оставленное для истории августейшей свидетельницей, затем выпадает из страниц петербургского общества до зимы 1835/36 года. В этом нет ничего удивительного. Светские столичные львы смотрели на Дантеса как на котильонного принца, приятного, жизнерадостного француза, чьи влиятельные друзья доставили ему место в гвардии. Однако удивительно, что его имя не упоминается немногочисленными истинными друзьями голландского посланника, такими, как Отто фон Брей-Штейнбург, поверенный в делах баварского посольства. В письмах графа Отто к своей матери Софи в Митау часто упоминается барон Геккерен, «остроумный и очень забавный человек, который был очень добр ко мне», но также «холодный и не очень приятный человек, однако способный оказывать истинные услуги тем, к кому он чувствовал благоволение». И все же ни слова о Дантесе, который был частым гостем элегантной частной резиденции, прилегавшей к голландскому посольству. Баварский и голландский дипломаты стали некой «неразлучной парой», их дружба выросла и укрепилась настолько, что Брей был серьезно обеспокоен, когда Геккерен серьезно заболел: «Я проводил с ним столько времени, сколько мог, и горько сожалел о своих скудных познаниях в уходе за больными. Он в таком состоянии, что едва замечает присутствие друзей». И опять ни слова о Дантесе, который, должно быть, проводил долгие и тревожные часы у постели посланника.
19 мая 1835 года граф фон Брей сообщает своей матери: «На днях я сопровождал Геккерена в Кронштадт… С большим сожалением должен был я расстаться с другом, который так много сделал, чтобы мое пребывание в этом городе было приятным. Мне будет не хватать его и в каждодневной жизни, и в моих привязанностях, и ни в каком отношении заменить его я не смогу. Он направляется в Баден-Баден… Мы вернулись из Кронштадта в Петербург в сильный шторм, на одном из судов Алексея Бобринского, работая наравне с членами экипажа, несмотря на ужасное недомогание». И опять ни слова о Дантесе, который находился на борту того же судна. Была ли личность французского офицера настолько бледной, что не стоила упоминания? Или ближайшие друзья Геккерена намеренно хранили молчание о его молодом друге? И если да, почему?
Жорж Дантес – Якобу ван Геккерену,
Петербург, 18 марта 1835 года
«Мой дорогой друг, ты не можешь представить себе, какое удовольствие доставило мне твое письмо и как оно меня успокоило, я ведь действительно ужасно боялся, что у тебя случатся судороги от морской болезни. Нам меньше повезло в нашем путешествии, поскольку наше возвращение было самой забавной, хотя и необычайной вещью – конечно, ты вспоминаешь ужасный шторм, который разыгрался, когда мы тебя покинули. Что ж, он становился все больше и больше, когда мы вошли в залив… Брей, который устроил такой шум на большом корабле, не мог решить, какому святому молиться, и немедленно предложил нам не только содержание обеда, который он ел на борту, но и всего, переваренного им в последнюю неделю, в сопровождении проклятий на всех языках».
Париж, начало лета 1989 года, спустя 152 зимы и 153 весны после смертельной раны, нанесенной Дантесом Пушкину. Чердак квартиры в шестнадцатом округе, серая исхоженная лестница, старые деловые бумаги, принадлежащие достойному пожилому владельцу квартиры, фотографии, открытки, печатные издания, личные письма. И затем внезапно то, о чем вы мечтали, но не смели и надеяться: связка старых писем из другой эры, другого мира.
Похороненные – или спрятанные? – более полутора столетий в личных папках семейства Геккерен, письма, написанные Жоржем Дантесом Якобу ван Геккерену в начале мая 1835 года, являются настоящим чудесным открытием для любого исследователя событий, приведших к последней дуэли Пушкина. Дар от крылатого вестника богов внезапно позволяет услышать голос – а также узнать мысли и чувства – человека, который в русский период своей очень долгой жизни не оставил после себя никакого наследия, кроме нескольких острот и ужасного бремени вины. Легенда обязывает: один последний штрих к драме в деле Жоржа Дантеса. Один последний штрих – к его удаче? Об этом трудно судить.
Это роковое фланелевое белье
Дантес – Геккерену,
Петербург, 18 мая 1835 года
«Пропасть, оставленную твоим отсутствием, невозможно описать. Я могу сравнить ее только с тем, что ты, возможно, ощущаешь, потому что, хотя ты иногда и ворчал, встречая меня (я, конечно, говорю о тех случаях, когда ты был страшно занят), тем не менее, я знал, что ты был счастлив немного поболтать со мной и что видеть друг друга в любое время дня стало для тебя такой же необходимостью, как и для меня. Я ехал в Россию, думая найти здесь только чужих, – и вот, провидение послало мне тебя! Так что ты не прав, называя себя моим другом, потому что друг не сделал бы для меня всего того, что сделал ты, даже не зная меня; в конце концов ты меня избаловал, я привык к этому, поскольку так быстро привыкаешь к счастью, и со всем этим снисходительность, которую я никогда бы не нашел даже в собственном отце: и разве, окруженный людьми, завидующими моему положению, как ты полагаешь? – не чувствую я разницу и не говорит мне каждый час дня, что тебя здесь больше нет… Прощай, мой милый друг. Позаботься о себе и чуть больше веселись…»
Предупреждение перед тем, как продолжить: даже при снисходительном переводе – с прибавлением где надо запятой или точки, правкой согласования времен, исправлением диковинной грамматической ошибки – письма Жоржа Дантеса нуждаются в великодушном читателе, читателе-редакторе, склонном не обращать внимание на ошибки и приводить в порядок стиль, свидетельствующий о слабом знании правил синтаксиса, да и вообще письменной речи. Луи Метман сказал о своем дедушке: «Ни в молодости, ни в зрелом возрасте он не проявлял почти никакого интереса к литературе. Домашние не припомнят Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-нибудь художественного произведения».
В конце мая барон Геккерен прибыл в Баден-Баден на воды, на чем настаивал доктор Задлер после приступа холеры, который чуть не отправил его к Создателю, но также и для того, чтобы встретиться с Жозефом Конрадом Дантесом (отцом Жоржа. – Примеч. пер.), который посетил этот курорт с Альфонсом, вторым своим сыном. Геккерен хотел обсудить с Жозефом Конрадом свою заветную идею, с которой он уже некоторое время носился: дать Жоржу имя Геккеренов и сделать его наследником своего состояния. Но даже представителю одного из старейших голландских родов было сложно усыновить француза, состоявшего на действительной военной службе в Российской Императорской гвардии, двадцати лет от роду, чей настоящий отец был жив и здоров. Хорошо осознавая стоящие перед ним препятствия, Геккерен был полон решимости использовать все свои дипломатические и ораторские способности, чтобы обойти или преодолеть их. Он знал, что может рассчитывать на расположение своего короля, которому он так долго и преданно служил, защищая интересы маленькой Голландии при одном из самых могущественных дворов Европы, однако первым шагом должно было стать получение согласия настоящего отца Жоржа.
Возможно, во время дневной прогулки по тенистым аллеям Баден-Бадена, а возможно, после вечерней игры в вист, но в какой-то момент он рассказал Жозефу Конраду об ужасной болезни, которую он только что перенес, и о тоске и чувстве пустоты, которые осаждают человека, лишенного потомства, когда он сталкивается со смертью. Возможно, он признался, как страстно хотел бы иметь семью: его собственная никогда не могла простить его обращение в католичество и с тех пор относилась к нему либо холодно, либо откровенно враждебно. Возможно, он описал беспокойную жизнь молодого человека, одинокого в заснеженной чужбине, молодого человека, изводимого завистью окружающих и объекта многих искушений, происходящих от его живого и буйного характера. Так или иначе, ему не только удалось завоевать доверие Жозефа Конрада, но и тронуть его сердце. Подтверждение этому пришло в конце июня в письме Жоржа: «Мой бедный отец очарован и пишет мне, что невозможно питать привязанность большую, чем ты питаешь ко мне, что мой портрет постоянно с тобой, благодарю тебя, тысячу раз благодарю, мой дорогой». Якоб ван Геккерен обещал своему будущему – как его назвать? – соотцу, что он навестит его в Сульце, как только окончательно поправится.
21 мая Жорж Дантес отправился в Павловск, за 25 верст от столицы, где у гвардии был регулярный летний лагерь. Здесь он вел тяжелую, изнурительную жизнь, находясь на постое в смрадной общей комнате избы, которую он делил с несколькими крестьянами. С огромным усилием удавалось ему найти тихий уголок, где он мог, урвав время, написать своему далекому другу письмо: «Муштра и муштра, маневры и маневры, и вдобавок ко всему эта ужасная погода, меняющаяся каждые два дня, сегодня удушающая жара, завтра такой холод, что не знаешь, куда деться». По сравнению с этим недели, проведенные в Вандее, показались ему приятными праздниками. Россией правил несгибаемый солдат, который любил демонстрировать – подданным, миру и самому себе – мощь и железную дисциплину своих вооруженных сил. В этой утомительной череде дней было только два ярких пятна: блестящие вечера в честь выдающихся гостей, таких, как Фридрих, принц Нидерландский; и «Императрица продолжает быть добра ко мне, потому что среди трех приглашенных от полка обязательно приглашен и я». Когда гвардия в конце концов покинула Павловск и прибыла на свои квартиры в Новую Деревню, Жорж Дантес пустился в стремительный водоворот светской жизни Островов – паутины островков в Финском заливе, архипелага лугов, лесов и садов, исчерченных бесчисленными протоками, ручьями и каналами, испещренных прудами и озерами. Чуть больше десятилетия Острова были модным местом отдыха петербургской аристократии, которая за бешеные деньги снимала здесь дачи, местом выступления французской труппы и даже водным курортом (вода, конечно, ввозилась, любимая вода императрицы из Эмса), славившимся роскошным залом для приемов. Кроме балов, не проходило и дня без parties de plaisir, пикников, лодочных прогулок и прогулок верхом. Имена амазонок – сестер Гончаровых – были у всех на устах на Островах в тот сезон из-за искусности и грации, с которыми они управляли чистокровными лошадьми знаменитых конюшен Полотняного Завода. Самая младшая и самая красивая из сестер была замужем за Пушкиным. Они проводили лето на Черной речке, возле Новой Деревни, и наш французский офицер, казалось, становился более галантным и остроумным в их обществе. Кошмар учений закончился, и это второе российское лето было бы совершенно восхитительным, если бы не раздражающие желудочные боли, которые мучили его уже несколько месяцев. «Но в любом случае, не беспокойся, – уверял он Геккерена. – Когда ты вернешься в Петербург, я буду уже в хорошей форме для того, чтобы сжать тебя в своих объятиях так, что ты вскрикнешь».
Пушкин – Александру Христофоровичу Бенкендорфу,
Петербург, 26 июля 1835 года
«Граф, мне тяжело в ту минуту, когда я получаю неожиданную милость, просить еще о двух других, но я решаюсь прибегнуть со всей откровенностью к тому, кто удостоил быть моим провидением. Из 60 000 моих долгов половина – долги чести. Чтобы расплатиться с ними, я вижу себя вынужденным занимать у ростовщиков, что усугубит мои затруднения или же поставит меня в необходимость вновь прибегнуть к великодушию государя. Итак, я умоляю его величество оказать мне милость полную и совершенную: во-первых, дав мне возможность уплатить эти 30 000 рублей и, во-вторых, соизволив разрешить мне смотреть на эту сумму как на заем и приказав, следовательно, приостановить выплату мне жалованья впредь до погашения этого долга. Поручая себя вашей снисходительности, имею честь быть с глубочайшим уважением и живейшей благодарностью…»
Геккерен продолжал демонстрировать свою привязанность к Дантесу предложениями денег, которые постоянно отвергались с вежливостью и осторожностью, удивительными в человеке, чей родной отец упрекал его в мотовстве. «Мой дорогой друг, – писал Дантес, – ты всегда безосновательно беспокоишься о моем благополучии, перед отъездом ты оставил мне средства, чтобы жить достойно и с комфортом… Если я ничего не прошу, это значит, я ни в чем не нуждаюсь… Я все еще далек от могилы, и у нас есть шанс вместе потратить те деньги, которые ты всегда так великодушно мне предлагаешь». Несмотря на эти убедительные протесты, барон продолжал слать деньги и подарки и уплачивал долги своего протеже. По всей вероятности, смущенный и обеспокоенный такой щедростью, Дантес отложил в сторону свой небрежный, разговорный французский язык, стараясь более или менее изысканно выразить свою благодарность человеку, стремящемуся удовлетворить все его потребности и предупредить все его желания, человеку, двигающему небо и землю, чтобы обеспечить ему счастливое будущее, свободное от тени нужды, под теплым крылышком нового любящего отца.
К сожалению, это будущее оказалось более отдаленным, чем ожидалось, поскольку по голландскому закону человеку моложе 50 лет не разрешалось усыновлять. «Я не имею нужды в бумагах, документах и свидетельствах, – писал Дантес, когда узнал об этом непредвиденном препятствии. – У меня есть твоя дружба, которая продлится, я уверен, до того времени, как тебе исполнится пятьдесят, и она лучше, чем все бумаги в мире». Утешенный теплыми словами своего подопечного, посланник продолжал сражаться, обдумывая все возможные выходы из прискорбного бюрократического тупика. И он продолжал развертывать свои планы, даже когда Жорж, встревоженный состоянием здоровья барона, дружески просил его это прекратить: «Когда врачи настаивали, чтобы ты уехал из Петербурга, причина была не только в полезности свежего воздуха, но и в том, чтобы ты отвлекся от дел и дал покой своему уму… Хорошенько позаботься о себе, и для нас всегда будет достаточно возможностей уехать и жить там, где климат более благоприятен, и убедиться, что мы будем счастливы везде». Геккерен предпринимал усилия для покупки имения под Фрейбургом, где он мог бы когда-нибудь поселиться; он часто думал о том, чтобы покинуть Россию и ее невозможный климат; по Петербургу ходили слухи о том, что он рассматривает возможность дипломатической миссии в Вене. Обычно разумный Дантес, заклятый враг мечтаний и замков на песке, казалось, позволил энтузиазму своего благодетеля увлечь себя: «Как ты говоришь, мы должны быть, так сказать, en famille: поскольку теперь ты часть ее… Мой отец имеет большое имение в трех часах от Фрейбурга, на берегах Рейна, и нет ничего невозможного в том, чтобы найти собственность, с ним граничащую. Уверяю тебя, это прекрасная мысль, и так как тебе нравится также и мой брат, мы сможем жениться и жить почти все вместе, всегда имея тебя в нашем распоряжении».