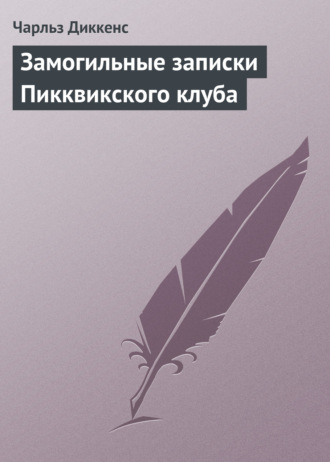 полная версия
полная версияЗамогильные записки Пикквикского клуба
– У нас тут друзья, – отвечал м‑р Винкель, – и мне бы не хотелось расставаться с ними нынешнюю ночь. Не угодно ли вам самим навестить нас в гостинице «Золотого Быка»?
– С большим удовольствием. В таком случае не будет поздно, если мы на полчаса завернем к вам в половине десятого?
– О, нет, это совсем не поздно, – сказал м‑р Винкель. – Я буду иметь честь представить вас почтенным членам нашего клуба, м‑ру Пикквику и м‑ру Топману.
– Это, без сомнения, доставит мне большое наслаждение, – отвечал доктор Слеммер, нисколько не подозревая, кто таков был м‑р Топман.
– Так вы придете? – спросил м‑р Снодграс.
– Непременно.
Этим временем они вышли на большую дорогу и после дружеских пожатий разошлись в разные стороны. Доктор Слеммер и приятели его отправились в Четемские казармы; м‑р Винкель и неразлучный его друг воротились в свою гостиницу.
Глава III
Еще новый приятель. – Повесть кочующего актера. – Неприятная встреча.
М‑р Пикквик уже начинал серьезно беспокоиться насчет необыкновенного отсутствия двух своих приятелей и припоминал теперь с замиранием сердца, что они все утро вели себя чрезвычайно странным и несколько загадочным манером. Тем сильнее была его радость, когда он увидел их опять, невредимых, здоровых и даже способных к поэтическому излиянию своих чувств. Очень естественно, что он позаботился расспросить прежде всего, где они пропадали целый вечер. Обнаруживая полную готовность отвечать на эти вопросы, м‑р Снодграс собирался представить подробный исторический отчет обо всем, что происходило за крепостью Питта на закате солнца, как вдруг внимание его было привлечено неожиданным замечанием, что в комнате присутствовали не только м‑р Топман и дорожный их товарищ вчерашнего дня но еще какой-то другой незнакомец замечательной наружности. То был джентльмен, очевидно знакомый с горьким опытом жизни. Его померанцевое лицо и глубоко впалые глаза казались чрезвычайно выразительными от резкого контраста с черными густыми волосами, падавшими в поэтическом беспорядке на его лоб и щеки. Взор его искрился почти неестественно пронзительным и ярким блеском; высокие его скулы страшно выдались вперед по обеим сторонам лица, и челюсти его были до того длинны и отвислы, что с первого раза можно было подумать, что вся кожа сползла с его лица вследствие каких-нибудь конвульсий, если б в то же время полуоткрытый рот и неподвижная физиономия не доказывали убедительным образом, что такова была его обычная наружность. На шее красовалась у него зеленая шаль с огромными концами, подвернутыми под грудь, и выставлявшимися наружу из под изорванных петель его старого жилета. Верхним его одеянием был длинный черный сюртук, нижним – широкие штаны из толстого серого сукна и огромные сапоги с заостренными носками.
На этой-то особе сосредоточился взгляд м‑ра Винкеля при входе в комнату президента. М‑р Пикквик спешил рекомендовать:
– Почтенный друг нашего друга. Сегодня мы узнали, что общий друг наш состоит на службе в здешнем театре, хотя он собственно не желает приводить это в известность. Почтенный джентльмен принадлежит тоже к обществу актеров. Он собирался рассказать нам маленький анекдот из жизни людей этой профессии.
– Кучу анекдотов! – подхватил зеленофрачный незнакомец вчерашнего дня. Он подошел к м‑ру Винкелю и продолжал вполголоса дружеским тоном. – Славный малый… тяжкая профессия… не то, чтоб актер… все роды бедствий… горемычный Яша… так мы его прозвали.
М‑р Винкель и м‑р Снодграс учтиво раскланялись с «Горемычным Яшей» и, потребовав себе пунша, в подражание членам остальной компании, уселись за общий стол.
– Теперь, стало быть, вы можете рассказать нам свою повесть, – сказал м‑р Пикквик. – Мы с удовольствием готовы слушать.
«Горемычный Яша» вынул из кармана грязный сверток бумаги и, обращаясь к м‑ру Снодграсу, поспешившему вооружиться записной книгой, – спросил охриплым и басистым голосом:
– Вы поэт?
– Я… Я… немножко: поэзия – мой любимый предмет, – отвечал м‑р Снодграс, несколько озадаченный неожиданным вопросом.
– О! поэзия – то же для жизни, что музыка и свечи для театра: она животворит и просвещает всякого человека, выступающего на сцену жизни. Отнимите у театра его искусственные украшения, и лишите жизнь её фантастических мечтаний: что тогда? Лучше смерть и безмолвная могила.
– Совершенная правда, сэр! – отвечал м‑р Снодграс.
– Сидеть перед сценой, за оркестром, – продолжал горемычный джентльмен, – значит то же, что присутствовать на каком-нибудь блестящем параде и наивно удивляться шелковым тканям мишурной толпы: быть на самой сцене, значит принадлежать к действующим лицам, посвятившим свои способности и силы на забаву этой пестрой толпы. Неизвестность, голодная смерть, совершенное забвение – все может случиться с человеком. Такова судьба!
– Истинно так! – проговорил м‑р Снодграс.
Так как впалые глаза горемычного джентльмена были исключительно обращены на его лицо, то он считал своей обязанностью сказать что-нибудь в подтверждение его слов.
– Пошевеливайся, что ли! – сказал с нетерпением испанский путешественник, – раскудахтался, как черноглазая Сусанна… там в переулке… Ободрись и начинай!
– Перед началом не угодно ли еще стаканчик пунша? – спросил м‑р Пикквик.
– Не мешает. Вино и поэзия – родные сестры, и я не думаю, чтоб кто-нибудь из людей с джентльменскими наклонностями сомневался в этой истине, утвержденной веками.
Горемычный джентльмен, проглотив залпом полстакана пунша, принялся читать и в то же время рассказывать следующий анекдот, отысканный нами в «Записках клуба», под заглавием:
Повесть кочующего актера.
«Нет ничего чудесного в моей истории, – сказал „Горемычный Яша“, – ничего даже необыкновенного не найдет в ней человек, хорошо знакомый с разнообразными явлениями житейской суеты. Болезнь и нищета – обыкновенные спутники человеческой жизни. Я набросал эти строки единственно потому, что лично знал несчастного героя своей незатейливой истории. За несколько лет перед этим я следил за ним шаг за шагом, до тех пор, пока он, наконец, телом и душой, не погрузился в мрачную бездну, откуда уже никогда не мог выбраться на божий свет.
Человек, о котором намерен я говорить, был скромный пантомимный актер, и следовательно – горький пьяница, как почти всегда бывает у нас с людьми этого разряда. В лучшие дни, прежде чем ослабили его разврат и болезнь, он получал порядочное жалованье и, при воздержной жизни, мог бы, вероятно, получать его еще несколько лет. Говорю несколько, потому что эти люди всего чаще оканчивают свою карьеру ранней смертью, или вследствие неестественного изнурения и возбуждения телесных сил преждевременно утрачивают те физические способности, на которых единственно основываются их средства к существованию. Как бы то ни было, господствующая его страсть возрастала и усиливалась с такой быстротой, что в скором времени оказалось невозможным употреблять его в тех ролях, где он исключительно был полезен для театра. Трактир имел для него чарующую силу, и никогда не мог он устоять против искушений соблазнительной влаги. Запущенная болезнь и безнадежная нищета, сопровождаемые преждевременной смертью, неизбежно должны были сделаться его уделом, если б он упорно продолжал идти по той же дороге. Однакож, он действительно шел по ней очертя голову, не оглядываясь назад и не видя ничего впереди. Последствия были ужасны: он очутился без места и без хлеба.
Случалось ли вам видеть, какое полчище оборванных и жалких бедняков принимает участие в театральных представлениях, как скоро разыгрывается какая-нибудь пантомима, или пьеса в восточном вкусе? Это собственно не актеры, правильно ангажированные, но балетная толпа, хористы, клоуны, паяцы, которых распускают тотчас же после спектакля, до тех пор, пока вновь не окажется нужда в их услугах. К такому-то образу жизни принужден был обратиться мой герой, и скудный заработок при одной ничтожной театральной группе, платившей несколько шиллингов в неделю, доставил ему снова несчастную возможность удовлетворять свою роковую страсть. Но и этот источник скоро иссяк для него: трактирные похождения, принимавшие с каждым днем самый беспорядочный и буйный характер, лишили его скудного заработка, и он буквально доведен был до состояния, близкого к голодной смерти. Изредка только удавалось ему выманить взаймы какую-нибудь безделицу от своих старых товарищей, или зашибить копейку в каком-нибудь балагане, и приобретение его, в том и другом случае, немедленно спускалось в кабаке или харчевне.
Около этого времени я был ангажирован на один из второстепенных лондонских театров, и здесь-то опять, сверх всякого ожидания, встретился я с несчастным героем, которого уже давно выпустил из вида; потому что я странствовал по провинциям, a он скрывался в грязных захолустьях Лондона, и никто из нас не знал, чем и как он жил. Окончив свою роль, я переодевался за кулисами и собирался идти домой, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Во всю жизнь не забыть мне отвратительного вида, который встретил мой взор, когда я обернулся назад. То был мой герой, одетый для пантомимы, со всею нелепостью клоунского костюма. Фантастические фигуры в „Пляске смерти“, уродливые и странные карикатуры, нарисованные когда-либо на полотне искусным живописцом, никогда не могли представить и в половину такого ужасного, замогильного лица. Его пухлое тело и дрожащие ноги, – безобразие их во сто раз увеличилось от фантастического костюма, – стеклянные глаза, странно противоречившие толстому слою румян, которыми было испачкано его лицо; трясущаяся голова, карикатурно разукрашенная пестрой шапкой с развевающимися перьями, длинные костлявые руки, натертые и вылощенные мелом: все это сообщало его наружности отвратительный, гадкий и такой неестественно-ужасный вид, о котором я до сих пор не могу и подумать без замирания сердца. Он отвел меня в сторону и начал дрожащим голосом исчислять длинный ряд недугов и лишений, умоляя, как водится, ссудить ему несколько шиллингов на самое короткое время. Получив от меня деньги, он опрометью бросился на сцену, и через минуту я слышал оглушительный смех и дикий рев, которыми сопровождались его первые прыжки и кувырканья.
Через несколько вечеров оборванный мальчишка опустил в мою руку грязный лоскуток бумаги, где было нацарапано несколько слов карандашом, из которых явствовало, что герой мой опасно болен, и что он, во имя человеколюбия и дружбы, покорнейше просит меня навестить его после спектакля, в такой-то улице – я забыл её имя – недалеко, впрочем, от нашего театра. Я велел сказать, что приду, и в самом деле, лишь-только опустили занавес, я отправился на свой печальный визит.
Было поздно, потому что я играл в последней пьесе, и спектакль вообще тянулся очень долго вследствие бенефиса в пользу главного актера. Была темная холодная ночь. Сырой и пронзительный ветер подгонял к окнам и фасадам домов крупные капли проливного дождя. В глухих и тесных улицах накопились целые лужи, и как ветер загасил большую часть фонарей, то прогулка сделалась в самой высокой степени неудобною и опасною. К счастью, однако ж, я пошел по прямой дороге, и после некоторых затруднений мне удалось отыскать квартиру моего героя – угольный сарай с надстройкой в роде чердака: в задней комнате этого жилища лежал предмет моего печального визита.
На лестнице встретила меня какая-то женщина – оборванное и жалкое создание, с сальным огарком в руке. Она сказала, что муж её лежит в забытьи, и, отворив дверь, спешила поставить для меня стул у его постели. Лицо его было обращено к стене, и он не мог заметить моего прихода. От нечего делать, я принялся рассматривать место, куда завлекла меня судьба.
Больной лежал на старой складной кровати, убиравшейся в продолжение дня. Вокруг изголовья торчали лоскутья грязного занавеса, сгруппированные для защиты от ветра, который, однако ж, свободно дул по всей комнате, пробираясь через щели в стенах и двери. В развалившемся камине, за изломанной решеткой, перегорали и хрустели остатки каменного угля, и перед решеткой был поставлен старый круглый стол с пузырьками из аптеки, разбитым зеркалом, щеткой и другими статьями домашнего хозяйства. На полу, среди комнаты, валялся ребенок на приготовленной для него постели, и подле, у изголовья, на трехножном стуле, сидела его мать. Справа на стене утверждены были две полки, где виднелись тарелки, чашки, блюдечки и две пары театральных башмаков. Внизу, под этой полкой, висели две рапиры, арлекинская куртка и шапка. Вот все, что я мог заметить в этом странном жилище, за исключением, впрочем, нескольких узлов с лохмотьями, беспорядочно разбросанных по углам комнаты.
Долго я прислушивался к тяжелому дыханию и лихорадочным вздрагиваньям больного человека, прежде чем узнал он о моем присутствии. Наконец, в бесполезном усилии отыскать спокойное место для своей головы, он перебросил через постель свою руку, и она упала на мою. Он вздрогнул и устремил на меня блуждающий взор.
– М‑р Готли, Джон, – проговорила его жена, давая знать обо мне, – м‑р Готли, за которым ты посылал сегодня. Забыл разве?
– А! – воскликнул больной, проводя рукою по лбу, – Готли… Готли… кто, бишь, это… дай Бог память!
Казалось, через несколько секунд воспоминания его оживились и сознание воротилось. Он судорожно схватил мою руку и сказал:
– Не оставляй меня, старый товарищ, не оставляй. Она убьет меня, я знаю.
– Давно он в таком положении? – спросил я, обращаясь к его плачущей жене.
– Со вчерашней ночи, – отвечала она. – Джон, Джон! Разве ты не узнаешь меня?
– Не пускай ее ко мне! – вскричал больной, судорожно вздрагивая, когда она хотела склонить над ним свою голову. – Прогони ее, ради Бога! Мне тошно ее видеть.
Он дико вытаращил на нее глаза, исполненные тревожных опасений, и принялся шептать мне на ухо:
– Я бил ее, Яков, жестоко бил вчера и третьего дня, часто бил. Я морил их голодом и холодом – ее и ребенка: теперь я слаб и беззащитен… Яков, она убьет меня, я знаю. Как она плакала, когда я ее бил! О, если б ты видел, как она плакала! Прогони ее, сделай милость.
Он выпустил мою руку и в изнеможении упал на подушку.
Я совершенно понял, что все это значило. Если бы еще оставались какие-нибудь сомнения в моей душе, один взгляд на бледное лицо и костлявые формы женщины мог бы удовлетворительным образом объяснить настоящий ход этого дела.
– Вам лучше отойти, я полагаю, – сказал я, обращаясь к жалкому созданию. – Вы не можете принести пользы вашему супругу. Вероятно, он успокоится, если не будет вас видеть.
Бедная женщина отошла от своего мужа. Через несколько секунд он открыл глаза и с беспокойством начал осматриваться вокруг себя.
– Ушла ли она? – спросил он с нетерпением.
– Да, да, – сказал я, – тебе нечего бояться.
– Вот что, старый друг, – сказал он тихим голосом, – и больно мне, и тошно, и гадко видеть эту женщину. Это – олицетворенная кара для меня. Один взгляд на нее пробуждает такой ужасный страх в моем сердце, что я готов с ума сойти. Всю прошлую ночь её огромные глаза и бледное лицо кружились надо мной: куда бы я ни повернулся, вертелась и она, и всякий раз как я вздрагивал и просыпался от своего лихорадочного бреда, она торчала у моего изголовья и дико, и злобно озирала меня с ног до головы.
Он ближе наклонился к моему уху, и продолжал глухим, взволнованным шепотом:
– Это ведь, собственно говоря, злой дух, a не человек. Да, да, я знаю. Будь она женщина – ей давно бы следовало отправиться на тот свет. Никакая женщина не может вынести того, что она перенесла. Уф!
С ужасом воображал я длинный ряд жестокостей и страданий, которые должны были произвести такое впечатление на этого человека. Отвечать мне было нечего: кто мог доставить утешение или надежду отверженному созданию, утратившему человеческие чувства?
Часа два я просидел в этом жилище нищеты и скорби. Больной стонал, метался, бормотал невнятные восклицания, исторгаемые физической болью, забрасывал руки на голову и грудь и беспрестанно переворачивался с боку на бок. Наконец, он погрузился в то бессознательное состояние, где душа беспокойно блуждает в лабиринте смутных и разнообразных сцен, переходя с одного места в другое, без всякого участия со стороны рассудка, и без возможности освободиться из под неописанного чувства настоящих страданий. Имея причины думать, что горячка теперь невдруг перейдет в худшее состояние, я оставил несчастного страдальца, обещавшись его жене придти вечером на другой день и просидеть, если понадобится, всю ночь у постели больного.
Я сдержал свое слово. В последние сутки произошла с ним страшная перемена. Глаза, глубоко впалые и тусклые, сверкали неестественным и ужасным блеском. Губы запеклись, окровянились и растреснулись во многих местах; сухая, жесткая кожа разгорелась по всему телу, и дикое, почти неземное выражение тоски на лице страдальца всего более обнаруживало роковые опустошения, произведенные недугом. Ясно, что горячка достигла самой высшей степени.
Я занял свое прежнее место и неподвижно просидел несколько часов, прислушиваясь к звукам, способным глубоко поразить даже самое нечувствительное сердце. То был неистовый бред человека, умирающего преждевременною и неестественною смертью. Из того, что сказал мне врач, призванный к одру больного, я знал, что не было для него никакой надежды: надлежало быть свидетелем последней отчаянной борьбы между жизнью и смертью. И видел я, как иссохшие члены, которые, не дальше как часов за семьдесят кривлялись и вытягивались на потеху шумного райка, корчились теперь под смертельной пыткой горячки; и слышал я, как пронзительный хохот арлекина смешивался с тихими стонами умирающего человека.
Трогательно видеть и слышать обращение души к обыкновенным делам и занятиям нормальной жизни, когда тело, между тем, слабое и беспомощное, поражено неисцелимым недугом; но как скоро эти занятия, по своему характеру, в сильнейшей степени противоположны всему, что мы привыкли соединять с важными и торжественными идеями, то впечатление, производимое подобным наблюдением, становится чрезвычайно поразительным и сильным. Театр и трактир были главнейшими сценами похождений страждущей души по лабиринту прошедшей жизни. Был вечер, грезилось ему; у него роль в нынешнем спектакле. Поздно. Пора идти. Зачем они останавливают его? Зачем не пускают из трактира? Ему надобно идти: он потеряет жалованье. Нет! за него уцепились, не пускают его. Он закрыл свое лицо пылающими руками и горько принялся оплакивать свою бесхарактерность и жестокость неутомимых преследователей. Еще минута, и он декламировал шутовские вирши, выученные им для последнего спектакля. Он встал и выпрямился на своей постели, раздвинул иссохшие члены и принялся выделывать самые странные фигуры: он был на сцене; он играл. После минутной паузы, он проревел последний куплет какой-то оглушительной песни. Вот он опять в трактире: ух, как жарко! Ему было дурно, болен он был, очень болен; но теперь ничего: он здоров и счастлив. Давайте вина. Кто же вырвал рюмку вина из его рук? Опять все тот же гонитель, который преследовал его прежде. Он опрокинулся навзничь, заплакал, застонал, зарыдал.
Следовал затем период кратковременного забытья. Усталые члены успокоились, онемели, и в комнате распространилась тишина, прерываемая только удушливым дыханием чахоточной жены. Но вот он опять воспрянул и душой, и телом и снова обратился к занятиям прошедшей жизни. На этот раз пробирается он вперед и вперед, через длинный ряд сводчатых комнат и каморок, тесных, узких, мрачных и низких до того, что ему на карачках надобно отыскивать дорогу. Душно, грязно, темно. Куда ни повернет он голову или руку, везде и все заслоняет ему путь. Мириады насекомых жужжат и прыгают в спертом и затхлом пространстве, впиваются в уши и глаза, в рот и ноздри, кусают, жалят, высасывают кровь. Пресмыкающиеся гады гомозятся и кишат на потолке и стенах, взбираются на его голову, прыгают и пляшут на его спине. Прочь, прочь, кровопийцы! И вдруг мрачный свод раздвинулся до необъятной широты и высоты, воздух прояснился, насекомые исчезли, гады провалились; но место их заступили фигуры мрачные и страшные, с кровожадными глазами, с распростертыми руками. Все это старые приятели, мошенники и злодеи, сговорившиеся погубить его. Вот они смеются, фыркают, делают гримасы, и вот – прижигают его раскаленными щипцами, скручивают веревкой его шею, тянут, давят, душат, и он вступает с ними в неистовую борьбу за свою жизнь. „Наконец, после одного из этих пароксизмов, когда мне стоило неимоверных трудов удерживать его в постели, он впал, по-видимому, в легкий сон. Утомленный продолжительным и беспокойным бодрствованием, я сомкнул глаза на несколько минут; но вдруг сильный толчек в плечо пробудил опять мое усыпленное внимание. Больной встал и, без посторонней помощи, уселся на своей постели: страшная перемена была на его лице; но сознание, очевидно, воротилось к нему, потому что он узнал меня. Ребенок, бывший до этой поры безмолвным и робким свидетелем неистовых порывов страждущего безумца, быстро вскочил на ноги и с пронзительным криком бросился к своему отцу. Мать поспешно схватила его на руки, опасаясь, чтобы бешеный муж не изуродовал дитя; но, заметив страшную перемену в чертах его лица, она остановилась, как вкопанная, подле постели. Он судорожно схватился за мое плечо и, ударив себя в грудь, розинул рот, делая, по-видимому, отчаянные усилия для произнесения каких-то слов. Напрасный труд! Он протянул правую руку к плачущему младенцу и еще раз ударил себя в грудь. Мучительное хрипение вырвалось из горла – глаза сверкнули и погасли – глухой стон замер на посинелых устах, и страдалец грянулся навзничь – мертвый!“
Нам было бы весьма приятно представить нашим читателям мнение м‑ра Пикквика насчет истории, рассказанной странствующим актером; но, к несчастью, мы никак не можем этого сделать вследствие одного совершенно непредвиденного обстоятельства.
Уже м‑р Пикквик взял стакан и наполнил его портвейном, только-что принесенным из буфета; уже он открыл уста для произнесения глубокомысленного замечания: „именно так“, – в путевых записках м‑ра Снодграса объяснено точнейшим образом, что маститый президент действительно открыл уста, – как вдруг в комнату вошел лакей и доложил:
– Какие-то джентльмены, м‑р Пикквик.
Это ничтожное обстоятельство и было причиною того, что свет лишился дополнительных замечаний великого мужа, которым, без сомнения, суждено было объяснить многие загадочные пункты психологии и метафизики. Бросив суровый взгляд на слугу, м‑р Пикквик окинул испытующим взором всех присутствующих членов, как будто требуя от них известий относительно новых пришельцев.
– Я знаю, кто это, сказал м‑р Винкель, – ничего! Это мои новые приятели, с которыми я сегодня познакомился по весьма странному стечению обстоятельств. Прекраснейшие люди, офицеры девяносто седьмого полка. Надеюсь, вы их полюбите.
– Мы очень рады их принять, – добавил он, обращаясь к слуге.
М‑р Пикквик успокоился, и физиономия его совершенно прояснилась. Между тем отворилась дверь, и в комнату, один за другим, вошли три джентльмена.
– Подпоручик Теппльтон, – сказал м‑р Винкель, – подпоручик Теппльтон, м‑р Пикквик, доктор Пайн, м‑р Пикквик – Снодграса вы уже видели: друг мой Топман, доктор Слемм…
Здесь м‑р Винкель должен был остановиться, потому что на лицах Топмана и доктора выразилось сильнейшее волнение.
– Я уже встречался с этим джентльменом, – сказал доктор многозначительным тоном.
– Право! – воскликнул м‑р Винкель.
– Да, и с этим также, если не ошибаюсь, – продолжал доктор, бросая пытливый взгляд на незнакомца в зеленом фраке.
– Ну, тем лучше, доктор. Я рад.
– Вчера вечером этот джентльмен получил от меня весьма важное приглашение, от которого, однако ж, он счел нужным уклониться.
Сказав это, доктор Слеммер бросил на незнакомца величественный взгляд и шепнул что-то на ухо своему приятелю, подпоручику Теппльтону.
– Неужто! – проговорил тот.
– Уверяю тебя.
– В таком случае скорей к развязке, – сказал с большою важностью владелец походного стула.
– Погоди, Пайн, перебил подпоручик. – Позвольте спросить вас, сэр, – продолжал он, обращаясь к м‑ру Пикквику, начинавшему уже приходить в крайнее расстройство от этих таинственных и неучтивых переговоров, – позвольте спросить, к вашему ли обществу принадлежит этот джентльмен в зеленом фраке?
– Нет, сэр, – отвечал м‑р Пикквик. – Он наш гость.
– Он член вашего клуба, если не ошибаюсь? – продолжал подпоручик вопросительным тоном.
– Совсем нет.
– И он не носит форменного фрака с вашими пуговицами?
– Нет, сэр, никогда! – отвечал озадаченный м‑р Пикквик.
Подпоручик Теппльтон повернулся к доктору Слеммеру и сомнительно пожал плечами. Маленький доктор бесновался и бросал вокруг себя яростные взгляды, м‑р Пайн злобно смотрел на лучезарную физиономию бессознательного Пикквика.









