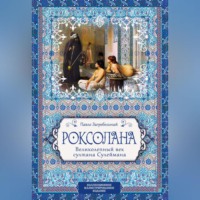Полная версия
Роксолана. Страсти в гареме

Павел Загребельный
Роксолана. Страсти в гареме
© Загребельный П., 2013
© ООО «Издательство «Алгоритм», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Кровь
От Ибрагима не осталось ничего, даже его любимых зеркал. Хатиджа не захотела взять ни одного, ибо каждое из них как бы хранило в своих таинственных глубинах бледное отражение того, кто опозорил ее царский род. Султанские эмины, которым велено было забрать имущество бывшего великого визиря в государственную сокровищницу, проявили интерес только к драгоценным оправам. Даже янычары, расположившись во дворце Ибрагима, вопреки своим привычкам, не стали бить зеркал, правда, не из суеверия, а скорее из трезвого расчета, потому что все это добро можно было отправить на Бедестан и распродать там хотя и за полцены, но все же получить при этом пользу большую, чем от вдребезги разбитого стекла.
Неожиданно из-за моря приплыло еще одно зеркало для Ибрагима. Уже для мертвого. У стамбульских причалов всегда было много зевак, которые встречали каждое судно так, будто надеялись, что оно принесет им счастливую судьбу. Посылал туда своих людей и Гасан-ага, желая без промедления получать вести, прилетающие с морскими ветрами. Вот так один из его Гасанов и узнал: на только что прибывшем венецианском барке привезено в дар Ибрагиму огромное зеркало. На этом барке приплыл в Стамбул посланный самим дожем Венеции Андреа Грити прославленный художник Вечеллио с несколькими своими учениками. Дож прислал своего любимого художника по просьбе сына Луиджи Грити, еще не зная о том, что сын его уже мертв, точно так же, как не знал о смерти великого визиря Ибрагима тот, кто посылал ему в дар редкостное зеркало.
Собственно, об этом зеркале и о художнике Гасан-ага немедленно известил свою повелительницу, опережая даже вездесущих султанских улаков, доносчиков. Он переслал Роксолане краткое письмо и уже в тот же день получил от султанши повеление взять с барка зеркало и передать гаремным евнухам, чтобы те поставили его в кьёшк Гюльхане, обновленный Сулейманом для своей любимой жены во время ее последней болезни. О художнике Роксолана не упоминала, не интересовалась и тем, кто прислал Ибрагиму зеркало, но Гасан-ага и так знал, что когда-нибудь она может спросить и поинтересоваться, ибо была не только султаншей, а прежде всего женщиной капризной, непонятной и загадочной. Потому он должен был собирать сведения и об этом.
Зеркало было роскошное. Огромное, на полстены, в тяжелой золоченой раме, вверху у нее был вид стрельчатой арки, на которой летели два улыбающихся золотых ангелочка с оливковыми ветвями в руках. Кому принесут они желанный мир и принесут ли?
Зеркало украсило зал приемов в Гюльхане. Оно понравилось самому султану, но и Сулейман проявил сдержанность, достойную властелина, не спросив даже, откуда оно. Роксолана сказала ему о художнике, присланном дожем Венеции.
– Я уже знаю. Это Луиджи Грити попросил своего отца. Хотел, чтобы было как при великом Мехмеде Фатихе, когда Венеция тоже присылала в Стамбул своего самого знаменитого художника. Даже мертвый Грити оказывает мне услуги. Я обязан отомстить за его смерть, подобающим образом наказав венгров и этого коварного молдавского воеводу Рареша.
– Вы снова пойдете в поход, мой падишах? Ради какого-то мертвого купца-иноверца?
– Он был моим другом.
– Кажется, он был еще большим другом Ибрагима.
– Грити убит, когда он исполнял нашу высокую волю. Это преступление не может оставаться безнаказанным.
– Снова наказания и снова кровь? Мой повелитель, мне страшно. Не падет ли когда-нибудь эта кровь на наших детей?
– Это кровь неверных.
– Но все равно она красная. Людская кровь. Сколько ее уже пролито на земле! Целые моря. А все мало? Только и мыслей – как пролить еще больше? Ваше величество, не оставляйте меня одну в Стамбуле! Приостановите свой поход. Возьмите цветок в руки, как это сделал когда-то Фатих, и пусть этот венецианец нарисует вас, как нарисовал когда-то Фатиха его предшественник.
– Обычай запрещает изображать живые существа, – напомнил султан.
– Измените обычай, мой повелитель! Запрещать живое – не делает ли это людей кровожадными, преступно равнодушными к живой жизни?
– Чего стоит человеческая жизнь, когда имеешь намерение изменить мир? – торжественно промолвил Сулейман. – Виновен не тот, кто убивает, а тот, кто умирает. Враг врагу не читает Коран.

Мерьем Узерли в роли Хуррем Султан в сериале «Великолепный век»
Роксолана смотрела на этого загадочного человека, не зная, любить или ненавидеть его за это упрямство, а он утомленно опускал веки, боясь посмотреть в глаза своей Хасеки, глаза такого непостижимого и недостижимого цвета, как и ее сердце.
– Прими этого живописца, – милостиво улыбнулся он, – для него это будет невероятно высокая честь.
– Он рисовал римского папу, императора, королей.
– Но никогда не имел чести разговаривать с всемогущей султаншей.
Роксолана засмеялась.
– Мой султан, эта почтенность меня просто убивает! Я больше хотела бы остаться беззаботной девчонкой, чем быть всемогущей султаншей.
Он тоже попытался сбросить с себя чрезмерную величавость, которая граничила с угрозой окаменения.
– И моему сердцу всегда милее смеющаяся и поющая Хуррем. Почему бы ей теперь не смеяться и не петь? Нет ни преград, ни запретов.
– А может, человек смеется и поет только тогда, когда есть преграды и запреты? Хочешь их пересмеять и перепеть, ибо как же иначе устранишь их? Радостью одолеть все злое.
– Я хочу, чтобы у тебя всегда была радость. Чтобы ты воспринимала радость как дар Аллаха. И никто не смеет встать у тебя на пути. Ты должна принять венецианского живописца, может, тебе стоит принять и посла Пресветлой Республики, пусть увидят, в каком счастье и богатстве ты живешь.
– Баилы пишут об этом уже десять лет. Сколько же их сюда присылала Венеция. И все они одинаковы. Живут сплетнями, как женщины в гареме.
– Ты принадлежишь отныне к миру мужскому, – самодовольно заметил Сулейман.
– Слабое утешение, – горько улыбнулась Роксолана. – В этом суровом мире нет счастья, есть только пустые слова: слава, богатство, положение, власть.
Он нахмурился:
– А величие?
Она вспомнила слова: «И он упал, и падение его было великим», но промолчала. Только удивилась, что султан забыл сослаться на спасительный Коран, как это делал каждый раз.
– Вспомни, как мы принимали польского посла, – сказал Сулейман, – и как он был поражен, увидев тебя рядом со мною на троне, а еще больше когда ты обратилась к нему по-латыни и по-польски.
Роксолана засмеялась, вспомнив, как был обескуражен пан Опалинский.
– Я передал польскому королю письмо, где было сказано: «В каком счастье видел твой посол Опалинский твою сестру, а мою жену, пусть сам тебе скажет…»
– Нет пределов моей благодарности, – прошептала Роксолана.
– И моей любви к тебе, – тихо промолвил султан, – каждое воспоминание о тебе светится для меня в кромешной тьме, будто золотая заря. Я пришлю тебе свои стихи об этом.
– Это будет бесценный подарок, – ответила она шепотом, будто окутала шелком.
Прежде чем встретиться с венецианцем, Роксолана позвала к себе Гасана. Несмотря на свое видимое могущество, у нее не было другого места для таких встреч, кроме покоев Фатиха в Большом дворце, очень тесных среди этой роскоши, а теперь еще и запятнанных зловещей славой после той ночи таинственного убийства Ибрагима, которое свершилось здесь. Правда, было в этих покоях и то, что привлекало Роксолану, как бы возвращая ее в навеки утраченный мир. Рисунки Джентиле Беллини на стенах. Контуры далеких городов, фигуры людей, пестрая одежда, голые тела, невинность и греховность, роскошь и суета. В рисунках венецианского художника нашла отражение вся человеческая жизнь с ее долей и недолей. Чудо рождения, первый взгляд на мир, первый крик и первый шаг, робость и дерзость, радость и отчаяние, уныние будничности и шепоты восторга, а затем внезапно настигшее горе, падение, почти гибель, и все начинается заново, ты хочешь снова прийти на свет, который тебя жестоко отбросил, но не просто прийти, а победить, одолеть, покорить, добиться господства; теперь преграды уже не мелочные и никчемные, ты бросаешь вызов самой судьбе, судьба покорно стелется к твоим ногам, возносит тебя к вершинам, к небесам, – и все лишь для того, чтобы с высоты увидела ты юдоли скорби и темные бездны неминуемой гибели, которая суждена тебе с момента рождения, услышала проклятия, которые темным хором окружают каждый твой поступок. И восторг твой, выходит, не настоящий, а мнимый, и мир, которым ты овладела, при всей его видимой пестроте, на самом деле серый и невыразительный, и вокруг тьма, западни и вечная безысходность. Как сказано: «Где бы вы ни были, настигнет вас смерть, если бы вы даже были в воздвигнутых башнях».
Но это было в дни, когда она еще задыхалась от отчаяния, когда безнадежное одиночество и сиротство терзали ее душу, и она лихорадочно всматривалась в эти рисунки, будто в собственную судьбу, и, возможно, видела в них даже то, чего там не было, и только ее болезненная фантазия населяла этот разноцветный мир беззаботного венецианца химерами и ужасами.
Теперь проходила мимо них, не поворачивая головы. Могла разрешить себе такую роскошь невнимания, величавой скуки, уже не было пугливо раскрытых глаз – нависали над ними отяжелевшие веки, жемчужно твердые веки султанши над ее глазами. Ничто для нее не представляет никакой ценности, кроме самой жизни.
Сидела на шелковом диванчике, поджав под себя ноги, с небрежной изысканностью окутавшись широким ярким одеянием, терпеливо ждала, пока прислуга расставляла на восьмигранных столиках сладости и плоды, надменно следила, как нахально слоняются евнухи, на которых могла бы прикрикнуть, чтобы исчезли с глаз, хотя все равно знала, что они спрячутся вокруг покоев Фатиха, чтобы оберегать ее, следить, подсматривать, не доверять. Унизительная очевидность рабства, пусть даже и позолоченного. Гасана, как всегда, привел высоченный кизляр-ага, поклонился султанше до самой земли, не сводя с нее рабского взгляда, но из комнаты не уходил, торчал у дверей, хотя и знал, что будет с позором изгнан одним лишь взмахом пальчика Роксоланы. Но сегодня Роксолана была более милостива к боснийцу, подарив ему даже два слова:
– Иди прочь! – сказала ему ласково.
Ибрагим, кланяясь, попятился за дверь, чтобы притаиться там со всеми своими прислужниками, которых время от времени будет вталкивать в покои, чтобы те сновали там, напоминая ей о неутомимой слежке, о неволе в золотой клетке.
– Что в мире? – спросила Роксолана своего поверенного, кивая Гасану, чтобы сел и угощался султанскими лакомствами.
– Суетятся смертные, – беззаботно промолвил Гасан.
– Это видно даже из гарема. Расскажи о том, чего я не вижу.
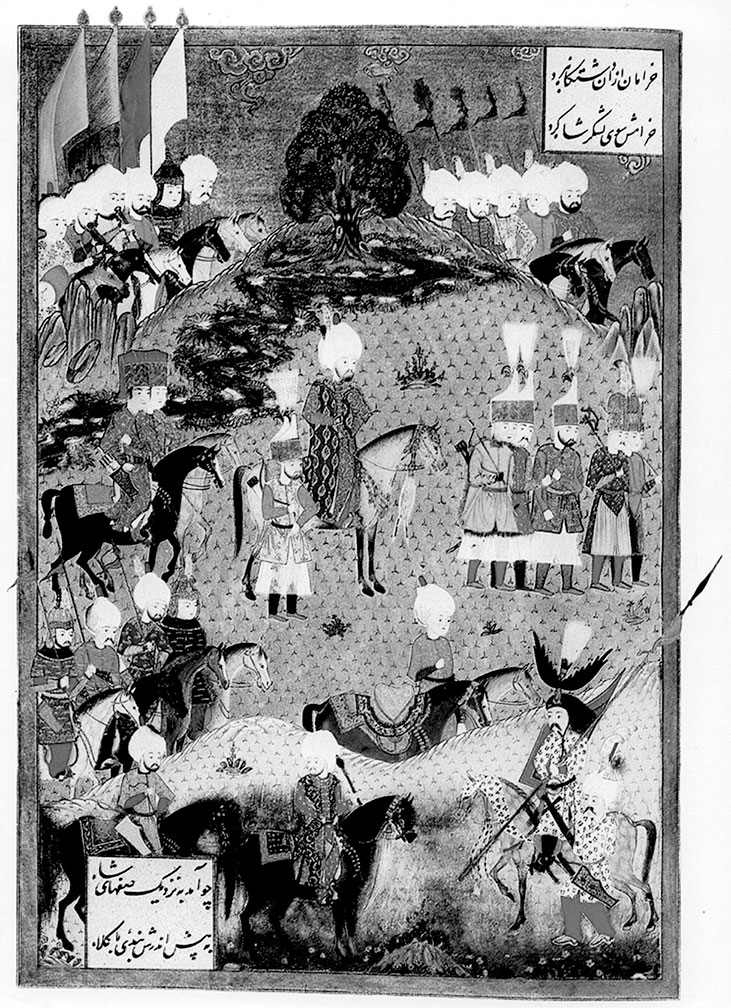
Поход Сулеймана на Нахичевань. Османская миниатюра
Пока не хотела говорить ни о каких делах, искала отдыха в беседе, играла голосом, прихотливостью, беззаботностью.
– Почему же ты молчишь? – удивилась, не услышав Гасановой речи.
Хотя он был самым близким для нее после султана (а может, еще более близким и родным!), но Гасан никогда не забывал, что она повелительница, а он только слуга, потому его молчание не столько удивило, сколько встревожило Роксолану.
– Гасан-ага, что с вами? Почему не отвечаете?
А он продолжал молчать и смотрел через ее плечо, смотрел упорно, немигающими глазами, встревоженно или взволнованно, смотрел, забыв о почтительности, дерзко, будто, как и прежде, оставался наглым янычаром, а не был самым надежным доверенным человеком этой повелительницы.
Проще всего было бы, проследив направление его взгляда, самой оглянуться, увидеть то, что встревожило Гасана, посмеяться над ним, пошутить. Но простые поступки уже не подобали Роксолане. Если бы она была Настасей, тогда… Но Настаси не было. Исчезла, улетела с птицами в теплые края, и не вернулась, и никогда не вернется. И матуся не вернется, и родной батюшка-отец, и отцовский дом на рогатинском холме: «Закричали янголи на небi, iзбудили батечка во гробi. Вставай, вставай, батечку, до суду, ведуть твое дитятко до шлюбу».
Оглянуться или не оглянуться? Нет! Сидела, словно окаменела, на губах царственная улыбка, а в душе ужас.
– Гасан!
– Ваше величество, – прошептал он, – кровь… На стене…
– Разве янычара поразишь кровью?
– Это кровь Ибрагима, ваше величество, – сказал Гасан.
– Боишься, что эта кровь упадет на меня? Но ведь сказано: «Не вы их убивали, но Аллах убивал их…»
– Они нарочно посадили вас под этой стеной.
– Кто они?
Он совсем растерялся:
– Разве я знаю? Они все хотят взвалить на вас, ваше величество. И смерть валиде, и убийство Ибрагима, и смерть великого муфтия Кемаль-заде. Вы уже слыхали о его смерти?
Она снова привела слова из Корана – неизвестно, всерьез или хотела прикрыться шуткой:
– «…чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности».
А сама слышала, как в душе что-то скулит жалобно и отвратительно. Все здесь в крови – руки, стены, сердца, мысли.
– Ибрагим должен был убить султана, султан его опередил, а теперь они хотят взвалить все на вас, ваше величество, – упорно продолжал Гасан-ага.
– Мне надоели гаремные сплетни.
– Даже смерть Грити…
– Еще и Грити? И этого тоже убила я?
– Они говорят, что на молдавский престол Рареша поставили вы, а уже Рареш…
– …выдал венграм Грити, исполняя мою волю? Все только то и делают, что исполняют мою волю. И Петр Рареш точно так же. Этот байстрюк Стефана Великого. Он прислал подарок для моей дочери Михримах, для султанской дочери! Драгоценную мелочь, на которую только и способен был один из многочисленных байстрюков великого господаря[1]. А знает ли кто-нибудь, что этот господарь Стефан когда-то был в моем родном Рогатине с войском и ограбил церковь моего отца-батюшки? И мог бы кто-нибудь в этой земле сказать мне, где моя матуся, и где мой отец, и где мой дом, и где мое детство? И на чьих руках их кровь?
Гасан молчал. Он проникался ее мукой, напрягался, страдая душой, готов был взять на себя все отчаяние Роксоланы, всю ее скорбь – так хотел бы помочь ей чем-то. Но чем и как?
– Ваше величество, я со своими людьми делаю все, чтобы…
– Зачем? Мои руки чисты! Пойди и скажи об этом всем. Я сама скажу.
Она вскочила на ноги, заметалась по коврам. Гасан тоже мгновенно вскочил с места, прижался к стене – кажется, в полуоткрытой двери промелькнула тяжелая фигура кизляр-аги. Дохнуло кислым запахом евнухов, невидимых, но ощутимых и присутствующих. Роксолана отбежала от стены с пятнами Ибрагимовой крови, остановилась, смотрела на эти коричневые следы смерти ненавистного человека, ощущала, как призраки обступают ее со всех сторон, недвижимые, будто окаменелые символы корыстолюбия и несчастий: валиде с темными резными устами; два великих муфтия с постными лицами и глазами фанатиков; пышнотелая Гульфем, набитая глупостью даже после смерти; Грити, который и мертвыми руками гребет к себе драгоценные камни; Ибрагим, который, щеря острые зубы, ядовито шепчет ей: «А что ты сказала султану? Что ты сказала?» Тень падает на тебя, хотя ты и безвинна. Достигла величия – и теперь падает тень.
– Я нашел того, кто прислал из-за моря зеркало Ибрагиму, – неожиданно сказал Гасан-ага.
Простые слова помогли Роксолане стряхнуть с себя наваждение. Призраки отступили, кровавые пятна на рисунках Джентиле Беллини утратили свой зловещий вид, казались следом небрежности художника, случайным мазком сонной кисти, непостижимым капризом веселого, а то и хмельного венецианца.
– Зеркало? – Она с радостью ухватилась за это спасение от призраков, терзавших ее и на вершине величия с еще большей яростью, чем в рабской униженности, которую познала в ту ночь, когда была приведена в султанский гарем. – Кто же этот благодетель?
Успокоившаяся, она возвратилась к своему шелковому диванчику, удобно расположилась, даже протянула руку, чтобы налить себе шербета из серебряного кувшина. Будто сойдя со стены, появилась неизвестно как и откуда служанка в прозрачной одежде, а за нею тенями подкрадывались евнухи и на самом деле казались бы тенями, если бы не было у них грязных, липких от сладостей пальцев, которые старались как можно скорее вытереть – один о шаровары, другой о тюрбан.
– Убирайтесь вон! – прикрикнула на них султанша.
Служанку удалила незаметным движением бровей, так, что даже Гасан-ага поразился ее умению.
– В том-то и дело, что он не является благодетелем, – сказал Гасан, отвечая на вопрос Роксоланы. – Это скорее любимец. Точно так же, как Ибрагим был душой и сердцем своего повелителя.
– Ты говоришь – был? Неужели его тоже нет, как и нашего грека? Мертвый послал зеркало мертвому, а я оказалась между ними. Велю убрать его из Гюльхане.
– Ваше величество, этот человек жив. И, кажется, плывет сюда, чтобы найти убежище, обещанное ему Ибрагимом.
– Объясни, – утомленно откинулась она на подушку.
– Его зовут Лоренцано. Он из рода Медичи, но не из тех, что обладают влиянием и властью в Италии, а из незнатных. Стал душой и сердцем флорентийского правителя Алессандро Медичи. Услышал, какой властью обладает Ибрагим над султаном, начал переписываться с греком, спрашивал советов, оказался способным учеником. Далее они уже состязались – кто достигнет большей власти над своим благодетелем. Потом стали следить, кто первым избавится от своего благодетеля, потому что любимцами становятся лишь для того, чтобы покончить – рано или поздно – с покровителями, устранить их и занять их место. На случай неудачи они договорились спасать друг друга. Когда же захватят власть, быть и дальше сообщниками во всем, пока не покорится им весь многолюдный мир – одному исламский, другому христианский.

Гаремные девушки. Художник Рудольф Эрнст
– Говоришь страшное. Как мог узнать об этом?
– Ваше величество, письма. Я купил все письма, которые писал этот Лоренцано Ибрагиму. Грек не знал итальянского, давал читать своему драгоману, потом приказывал уничтожать письма. А тот продавал их великому драгоману Юнус-бегу, потому что Юнус-бег поклялся низвергнуть Ибрагима. Может, это он и открыл глаза султану. Теперь Ибрагим мертв, и Юнус-бег охотно продал мне письма. В последнем из них Лоренцано сообщает, что убил своего благодетеля во время охоты, но из Флоренции вынужден бежать, потому что власть захватить не сумел. Надеется на прибежище в Стамбуле. Еще не знает, что Ибрагим мертв.
– Где эти письма?
Он передал ей тоненький сверток в шелковом платочке.
– Так мало?
– Ваше величество, разве глубина подлости зависит от количества слов?
– Прими этого Лоренцано, и пусть живет здесь, сколько нужно.
– Его могут убить флорентийцы.
– Спрячь от них. А тех венецианцев, которые прибыли к Грити, приведи ко мне. Я приму художника. Где он живет? Во дворце Грити?
– Все имущество Грити забрало государство.
– А разве государство – это не я? Пусть откроют для художника дом Грити и обеспечат всем необходимым. Скажи, что это веление падишаха.
– Ваше величество, вы примете венецианца здесь?
– Нет у меня для этого другого места.
Гасан снова молча смотрел на стену за ее спиной.
– Боишься этой крови? Мертвых врагов не надо бояться. Их надо любить и всячески возвеличивать, ибо тогда наши победы над ними обретают большую цену. Пусть увидит этот заморский художник кровь. У жестокого султана султанша тоже должна быть жестокой!
– Ваше величество, зачем вы это делаете? Мир жесток, он не прощает ничего.
– А чем я должна платить этому миру? Смехом и песнями? Не довольно ли? Уже устала. Полетела бы туда, где родилась моя душа, но где крылья? Султан собирается в поход на молдавского господаря. Иди с ним. И дойди до Рогатина. Посмотри и расскажи. Ибо я уже туда попаду разве лишь мертвой или в молве. Султаншей не могу. Султанша ступает только по своей земле. А моя земля теперь там, где мои дети.
– Ваше величество, поверьте, что мое сердце разрывается от боли при этих словах.
– Ладно. Чересчур много слышишь от меня слов. Иди.
Пробыла в покоях Фатиха до наступления сумерек. Велела принести туда ужин. Ужин с ужасами и кровью. Содрогалась от непонятного предчувствия. Плакала, не скрывая слез. «Лишаю слiдоньки по двору, а слiзоньки по столу». Вслушивалась в голоса неведомые, незримые, таинственные, далекие, то едва ощутимые, словно шелест крови в жилах, то угрожающие, как кара небесная. Ждала отмщения за грехопадение, за чьи-то страдания, ибо ее страданий теперь уже никто не увидит – они исчезли, забылись, вокруг воцарились зависть и ненависть. И никому нет дела до ее болезненно обнаженной души, неведомые голоса, которые с ярой жестокостью добивались мести и кары, считали, будто по ее вине рушатся царства и по ее вине преступление расползается по земле, заполняя просторы, огнем и кровью покоряя времена.
Но разве не она восседает в центре этого преступного мироздания и разве не падает на нее кровавая тень величественного султана, на ложе которого она прорастала, будто молодая беззаботная трава?
Хотела бы в тот же день, в ту же ночь, не дожидаясь утра, привести сюда художника, схватить его за руку, притянуть к этой стене со следами убийства, крикнуть: «На крови нарисуй султана Сулеймана, нарисуй его на крови! Моей, моих детей и моего народа!»
Но встретила художника на следующий день сдержанно, в величавом спокойствии, вся унизанная драгоценностями, окруженная прислугой, евнухами, толпившимися в тесных покоях Фатиха.
Художник оказался человеком старым, утомленным и каким-то словно бы даже равнодушным, не присутствующим при деяниях мира сего. Никакого любопытства ни в глазах, ни в голосе, ни во всем виде. Быть может, весь уже воплотился в свои картины и ничего не оставил для себя?
Роксолана, смело идя на преступное нарушение обычая, приоткрыла тонкий яшмак, чтобы показать венецианцу лицо. Но и это не подействовало на художника, не нарушило его спокойствия. Тогда она, снова опустив на лицо яшмак, сказала почти со злорадством:
– Я не видела ваших картин. Ничего не видела. Не слышала также вашего имени, хотя мне и говорили, что вы довольно известный художник. Но наша вера запрещает изображать живые существа, поэтому ваша слава в этой земле не существует.
Он спокойно выслушал эти жестоко-презрительные слова. Казалось, ничто его не тронуло и не удивило, даже то, что султанша свободно владела его родным языком.
Роксолана слишком поздно поняла, что допустила ошибку. Если хочешь унизить достоинство художника, не обращайся к нему на его родном языке. Она должна была бы обратиться к венецианцу по-турецки, прибегая к услугам драгомана-евнуха. Но теперь поздно об этом говорить. Да и нужно ли было вообще унижать этого человека? Потом присмотрелась к его глазам и увидела: то, что казалось равнодушием, на самом деле было мудростью и глубоко скрытым страданием. Может, только художники острее всего ощущают несовершенство мира и потому больше всех страдают?
– Я сказала вам неправду, – внезапно промолвила Роксолана, – я знаю о вас много, хотя и не видела ваших картин, ибо мир, в котором я живу, не может ни понять, ни воспринять их. Более всего заинтересовало меня ваше знаменитое «Вознесение». Почему-то представляется оно мне все в золотом сиянии, и Мария возносится на небо в золотой радости.
– К сожалению, радости всегда сопутствует печаль, – заметил художник.
– Это я знаю. В церкви моего отца иконы «Вознесение» и «Страсти» висели рядом. Тогда я еще была слишком мала, чтобы понять неминуемость этого сочетания.
– Шесть лет тому назад умерла моя любимая жена Чечилия, – неожиданно сказал художник. – И теперь я не могу успокоить свое старое сердце. Рисовал дожей, пап, императоров, святых, работал тяжело, ожесточенно, искал спасения и утешения, искал того, что превосходит все страсти, искал вечное.

Османский военачальник
– А что вечное? Душа? Мысль?
– Это субстанции неуловимые. Я привык видеть все воплощенным. Вечным все становится лишь тогда, когда одевается в красоту.