Искусство говорить на суде
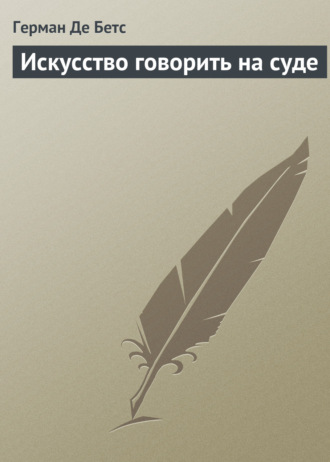 полная версия
полная версияИскусство говорить на суде
Жанр: учебная и научная литератураораторское искусство / риториказарубежная образовательная литератураюридическая литератураправоведениезнания и навыки
Язык: Русский
Год издания: 2016
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля

