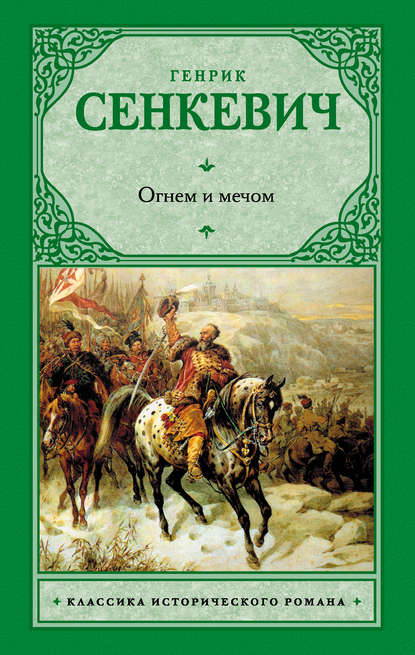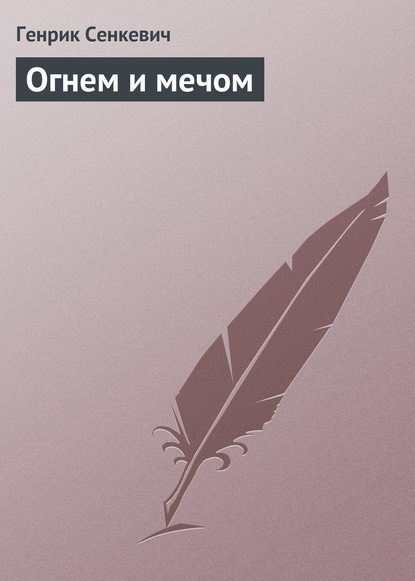полная версия
полная версияПан Володыевский
Пан Богуш нарочно замедлял свой путь; по дороге он останавливался у костелов, в которых каялся за свое участие с замыслах Азыи. Между тем в Хрептиов после Нового года понаехало много гостей. Из Каменца прибыл делегат патриарха эчмиадзинского, навирач, и с ним два анардрата – теолога, бежавших из Каффы, при которых было много слуг. Они удивляли воинов Хрептиова своими фиолетовыми и красными ермолками и длинными бархатными и атласными шалями. Их смуглые лица и журавлиная походка также немало изумляли солдат. В Хрептиов приехал и пан Захарий Петрович, о котором все знали, что он побывал и в Крыму, и в Царьграде и что, не жалея ни сил, ни времени, старался всеми силами отыскивать пленных на всех восточных рынках Он находился в качестве проводника при навираче и анардратах.
Маленький рыцарь отдал Петровичу сумму, следуемую за выкуп пана Боски, причем прибавил к ней часть своих денег, а также и жемчужные серьги Баси пожертвованы были для этой же цели, так как у пани Боска не хватило бы денег для выкупа мужа, а Володыевским хотелось поскорее порадовать ее и Софью.
Сюда же, в Хрептиов, приехали: претор каменецкий пан Сеферович; богатый армянин, брат которого был в плену у турок; затем две пани – очень смуглые, но красивые молодые женщины, пани Незеревичева и пани Керемовичева. Мужья этих молодых женщин также находились в неволе, и о них-то они приехали хлопотать.
Само собою разумеется, что гости эти были в печальном настроении. Однако в Хрептиове появились вдруг гости и более веселые: ксендз Каменецкий прислал молодую племянницу свою погостить на заговенье в Хрептиов, да кроме того нежданно-негаданно сюда же явился сын Нововейского, проведавший, что отец его находится в Хрептиове.
Сын Нововейского вырос и возмужал. Верхняя губа его украсилась усами, хотя и не покрывавшими белых зубов, но все же очень красивыми и щегольски закрученными. Голова у него была большая, покрытая лесом густых волос, а плечи были ширины неимоверной. Смуглое лицо молодого человека было всегда будто опалено зноем, глаза у него были полны жизни и отваги; удаль и молодечество были начертаны на его лбу. Размер рук соответствовал другим частям тела; он легко мог зажать в руке большое яблоко так, что его не было видно. Силой тоже Бог не обидел его: если он, положив на колени горсть орехов, придавливал их, то от орехов оставались одни крошки. Нижняя же часть туловища молодого Нововейского была очень худа, живот едва был заметен, но зато грудная клетка похожа была на часовню.
Силы он был необычайной: легко ломал подковы и завязывал железные прутья на шеях солдат; под его шагами трещали доски, если он шел по ним, а, зацепившись за лавку, он имел удовольствие видеть, как от нее при этом только щепки летели.
Одним словом, молодой Нововейский был силен, отважен, обладал железным здоровьем; жизнь кипела в нем ключом. Он непрочь был и покутить с приятелями. На войну шел, беззаботно смеясь; врагов бил так, что солдаты, осматривавшие убитых им врагов, удивлялись его ударам. Выросший на войне, в степях, Нововейский обладал большой проницательностью и всегда догадывался обо всех уловках татар. Его считали за лучшего наездника после Рущича и Володыевского.
Отец принял молодого Нововейского не очень сурово, боясь, чтобы он опять не покинул его лет на десять. В душе самолюбивый пан был очень доволен успехами сына на служебном поприще, так как он вышел в люди, получил чин офицера, который только можно было получить, имея большую протекцию, и все это приобрел своими силами, не требуя от отца ни помощи, ни денег. Он знал также, что товарищи и гетман любили его сына, и, сообразив все это, пришел к убеждению, что сын его едва ли будет слушать его внушения, и отложил их до более удобного времени. А сын между тем, хотя и бросился к ногам отца, но не опустил глаз перед его взглядом и, как только отец начал свои укоры, тотчас же перебил его и сказал:
– Отец, я знаю – ты языком укоряешь, а в душе доволен мною, и справедливо: я не нанес тебе позора, а если в войско убежал, то на это я и шляхтич.
– Но, может быть, ты обасурманился, – возразил старик, – если в течение одиннадцати лет глаз не показал домой?
– Не показывался, потому что боялся кары, которая моему офицерскому чину и положению была бы противна. Ожидал письма с помилованием. Не было писем – и меня не было.
– А теперь уже не боишься?
Засмеявшись, сын отвечал:
– Здесь судит военная власть, перед которой даже родительская обязана уступить. Лучше обними меня, я вижу, как горячо ты этого желаешь.
И сын был готов броситься в объятия отца, но этому последнему как-то странно казалось обняться с этим взрослым мужчиной, офицером, так как в памяти его еще вставал мальчуган, когда-то бежавший из его дома, из дома отца, а теперь покрытый славою. Он и рад был бы сжать его в своих объятиях, но достоинство его не позволяло этого.
Но сын, недолго думая, сам сжал его так в своих медвежьих лапах, что кости пана Нововейского затрещали, и сердце его еще более смягчилось.
– Что делать! – воскликнул он со вздохом. – Чует шельма, что живет на своем хлебе. Да! Если бы это было у меня в доме, верно, я так не смягчился бы; но здесь что будешь делать! А поди-ка еще ко мне!
И они еще раз обняли друг друга; затем молодой Нововейский осведомился о сестре.
– Я приказал ей сидеть в стороне, пока не позову, – отвечал отец, – девка сюда так и рвется.
– Ради Бога! Где ж она? – закричал сын.
Он отворил дверь и громко крикнул:
– Евка! Евка!
Ожидавшая в соседней комнате Ева поспешила прийти на зов брата; но только что она крикнула «Адам!», как тот схватил ее и поднял в воздух Ева была очень рада приезду брата, так как он всегда любил ее и защищал от дурного обращения отца, который деспотически поступал со всеми домашними. Иногда брат брал вину Евы на себя, за что и получал от отца должное наказание вместо нее. Молодой человек стал целовать сестру куда попало и, смотря ей в лицо, восклицал:
– Славная девка! Ей-Богу, славная! Как выросла! Печь, а не девка!
Затем они начали рассказывать друг другу обо всем, случившемся с ними во время разлуки. Старый Нововейский находился тут же и что-то ворчал про себя. Хотя он относился к сыну с уважением, но жалел о потерянной власти над ним, так как в то время родители пользовались безграничным влиянием на детей. Но хотя сын его, наездник диких полей, не признавал уже больше этого влияния над собою, тем не менее пан Нововейский был убежден, что не потерял уважение его к себе, хотя и не мог заставить его выносить все то, что он выносил от отца, будучи подростком.
«Ба, – думал старый шляхтич, – но ведь и я не могу обходиться с ним как с подростком! Он поручик и пускает мне пыль в глаза, ей-Богу!» Но в конце концов он еще сильнее полюбил сына. Тем временем Ева успела уж замучить брата расспросами, на которые он не успевал отвечать. Между прочим Ева спросила, не думает ли он жениться, так как она слышала от пани Володыевской, что все воины очень влюбчивы. При этом Еза стала расхваливать Басю, говоря, что во всей Польше другой такой не найти, разве только Зося Боска еще может с ней сравниться.
– Что за Зося Боска? – спросил Адам.
– Та, которая гостит здесь со своею матерью. Ее отца орда взяпа в плен. Вот увидишь и полюбишь!
– Давайте сюда Зосю Боску! – кричал молодой офицер. Эта поспешная готовность жениться рассмешила как отца, так и Еву; но Адам на это заметил им:
– Что и говорить: любовь, как и смерть, никого не минет. Я был еще мальчишкой, а пани Володыевская девицей, когда я влюбился в нее по уши. Эх, господа, как же я любил эту Басю! Ну и что же? Собирался было объясняться, но не тут-то было: коли не поп, не суйся в ризу. Оказалось, что она любила уж пана Володыевского, и, надобно признаться, была права.
– Почему это? – спросил старый пан Нововейский.
– Почему? Потому что я, не хвалясь, заставлю каждого сложить оружие, а Володыевский и двух минут не фехтовал со мной, как я должен был покориться. А потом наездник он несравненный, перед которым сам пан Рущич шапку ломает. Что там пан Рущич! Даже татары обожают его. Это величайший воин в Речи Посполитой!
– А как он жену свою любит! AR ай! Даже сердце радуется смотреть на них, – сказала Ева.
– Ишь ты, какая у тебя оскомина! Да и пора, сестреночка, пора! – воскликнул Адам.
И, подбоченясь, он засмеялся и закивал головой наподобие лошади, а Ева, конфузясь, отвечала:
– У меня и в мыслях нет ничего такого!
– При том же здесь, слава Богу, нет недостатка в офицерах и хорошем обществе.
– Ну! – сказала Ева. – Я не знаю, говорил ли тебе отец, что и Азыя здесь?
– Азыя Мелехович, липек? Я его знаю, славный вояка.
– Но ты не знаешь, – подхватил старый пан Нововейский, – что он не Мелехович, а тот наш Азыя, который с тобой воспитывался.
– Неужели, что я слышу? Посмотрите, пожалуйста! Порой мне это приходило в голову, но когда мне сказали, что его фамилия Мелехович, то я и подумал: нет, это не наш, а Азыя у татар имя очень обыкновенное. Столько лет не видал его, неудивительно, что не был уверен. Наш был тщедушный заморыш, а этот – красавец!
– Наш-то он наш, – говорил старый Нововейский, – а в конце концов и не наш. Знаешь ли, чей он сын?
– Откуда же я могу знать?
– Великого Тугай-бея!
При этих словах Адам хлопнул себя по коленям.
– Ушам своим не верю! Великого Тугай-бея? В таком случае он князь и ханам родственник! Во всем Крыму нет более благородной крови, чем Тугай-бея.
– Вражья кровь.
– Вражья была по отцу, но сын нам служит. Я сам его двадцать раз видел в боях. Ха! Теперь я понимаю, откуда берется в нем та дьявольская отвага. Пан Собеский хвалил его перед целым войском и произвел в сотники. От души рад буду повидаться с ним! Славный воин!
– Только не позволяй ему быть с собой запанибрата!
– А почему? Разве он слуга мой или наш слуга? Я воин – он воин; я офицер, и он офицер. Ба! Если бы это был какой-нибудь мелюзга пехотинец, который на палочке верхом ездит – дело другое; но если он Тугай, то значит, не какая-нибудь кровь течет в его жилах Князь – и баста, а о шляхетстве сам пан гетман для него похлопочет. Смешно было бы с моей стороны перед ним чваниться, когда я побратим Кулак-мирзы, побратим Бакши-аги, побратим Сукыману, а все они вместе не устыдились бы пасти овец у Тугай-бея!
При этих словах Еве захотелось снова расцеловать брата; затем, усевшись подле него, она начала ласкать его и гладить по его могучей голове.
Но в это время в комнату вошел Володыевский, и молодой офицер поспешил ему навстречу, приветствуя его и вместе с тем объясняя, что не явился раньше к коменданту, потому что приехал в Хрептиов не по службе, а как частный человек.
– Кто ж может поставить тебе в вину, – отвечал Володыевский, обнимая молодого человека, – что ты, после такой долгой разлуки, прежде всего обнял колена своего родителя. Если бы дело касалось службы, то это другое, – но я надеюсь, что от Рущича никаких не имеешь поручений?
– Кроме поклонов. Пан Рущич отправился в Ягорилков, – ему дали знать, что там было найдено на снегу много конских следов. Письма ваши, пан комендант, он получил и немедленно отправил в орду к своим родственникам и побратимам, чтобы они искали и расспрашивали; сам пан Рущич вам не пишет, потому что, как он выражается, у него рука тяжела и не имеет в этом искусстве никакой опытности.
– Я знаю, что он этого не любит, – сказал Володыевский, – сабля у него – все!
И Володыевский, шевеля усами, хвастливо добавил:
– А все-таки за Азбой-беем гонялись более двух месяцев напрасно.
– Но ваша милость доконала его, как щука плотичку! – вставил слово пан Нововейский. – Господь отнял, видно, у него разум, что он от пана Рущича бежал сюда, к вашей милости. Нечего сказать, попал из огня да в полымя!
Слова эти были приятны пану Михаилу и, желая отплатить тем же, он сказал Нововейскому:
– Господь Бог не дал мне до сих пор сына, но если бы Он когда-нибудь услышал мою молитву, то я желал бы, чтобы он был таким же, как этот воин!
– Ничего особенного! Ничего особенного! – отвечал старый шляхтич. – Nequam[18] – и баста.
А сам от радости даже засопел.
– Он для меня редкий гость!
Тем временем пан Михаил, трепля Еву по щечке, говорил ей:
– Видите, панна, я далеко не молодой человек, а потому и стараюсь доставить иногда Басе, которая почти одних лет с вами, удовольствие, сообразное с ее возрастом. Правда, что здесь все ее очень любят; но я надеюсь, что вы, вероятно, согласитесь, что она того достойна.
– Господи Боже мой! – воскликнула Ева. – Такой другой в целом свете не найти! Я только что об этом говорила!
От удовольствия лицо Володыевского засияло улыбкой.
– Вы в самом деле это говорили? Ага?..
– Ей-Богу, говорила! – воскликнули вместе отец и сын.
– Ну, в таком случае, оденьтесь-ка понарядней, потому что я тихонько от Баси выписал из Каменца музыкантов. Я приказал им спрятать инструменты в солому, а ей сказал, что приехали цыгане ковать своих лошадей. Нынче мы отлично потанцуем. О, она это любит, хотя и корчит из себя степенную матрону.
И пан комендант, видимо, очень довольный, потер руки.
Глава XIII
Вьюга была страшная, на дворе темно – хоть глаз выколи, а снегу падало так много, что все рвы в станице были наполнены им. Между тем в доме коменданта был бал. Главная комната этого дома горела огнями, и в ней гремел оркестр, состоявший из двух скрипок, контрабаса, двух чаканов и валторны. Музыканты изо всех сил старались угодить танцующим.
Не принимавшие участия в танцах – старшие офицеры и другие – уселись вдоль стен и, глядя на танцующих, попивали кто вино, а кто мед. В первой паре Бася танцевала с Мушальским, который, несмотря на свои лета, известен был за искусного танцора. На Басе было белое парчовое платье, украшенное лебяжьим пухом. Она представляла собою свежую розу, воткнутую в снег. От старого до малого все удивлялись ее красоте. «Черт побери!» – невольно восклицали рыцари. Бася затмевала своей красотой и Еву, и Зосю, хотя обе они были тоже очень красивы и даже моложе Баси. С блестящими от радости глазами она подходила к мужу и дарила его улыбкой за доставленное ей удовольствие; блестя и сверкая, как звезда, в своей серебряной одежде, она невольно заставляла всех любоваться собою.
Солдаты также смотрели на этот бал со двора в освещенные окна и радовались, видя, что их любимая пани была царицей между всеми красавицами, и как только Бася подходила к окну, они приветствовали ее радостными криками, забывая всех остальных.
Маленький рыцарь, видя успех жены, и сам словно вырастал; глядя на танцующую Басю, он кивал в такт ее движениям; пан Заглоба, с кружкою меда в руках, стоя подле пана Михаила, притоптывал и от восхищения даже сопел, проливая мед на пол и не замечая этого.
А Бася, вся сияющая и радостная, мелькала по избе. В этой пустыне было для нее так много удовольствий: и охота, и битва, и танцы, и оркестр, и воины, и первый и лучший из них – ее любимый и любящий муж. Бася чувствовала себя вполне счастливой, так как знала, что ее все любят и прославляют и что этим счастлив и ее муж.
Визави с Басей танцевали Ева с Азыей. На Еве был надет кармазиновый кунтушек. Но кавалер Евы не занимал ее разговором, он весь был погружен в созерцание красоты Баси. Ева же приписывала его молчание робости и, желая ободрить его, стала пожимать его руку сначала слегка, а затем сильнее. Азыя также время от времени сжимал до боли ее руки, но делал это бессознательно, так как все мысли его были поглощены Басей; он повторял в душе, что волей или неволей она должна принадлежать ему, хотя бы даже для этого пришлось сжечь половину Речи Посполитой.
В ту минуту, когда он возвращался к действительности, ему хотелось задушить Еву, отомстив ей этим за ее пожатие и за то, что она стала ему преградой перед Басей. Порой он бросал на нее свой страшный, пронзительный взгляд, от чего сердце ее трепетало, как у пойманной птички: ей казалось, что наглый взгляд служит доказательством сильной любви к ней.
Адам Нововейский танцевал с Зосей Боска в третьей паре. Зося походила на незабудку, танцуя с опущенными глазами возле своего кавалера, похожего на дикого, разыгравшегося коня. Он так скакал, что только искры летели из-под его шпор, а волосы на голове будто вихрь поднимал. Лицо его сильно раскраснелось, широкие ноздри вздрагивали, как у турецкой лошади, и, поглядывая время от времени на милое, розовое личико Зоси с опущенными глазами, этот расходившийся сверх меры воин кружил ее, как вихрь, крепко прижимая к груди и радостно, громко смеясь при этом. Адаму все больше и больше нравилась Зося, тем более что, живя в Диких Полях, он почти целыми месяцами не видел женщин.
Зося же дрожала от страха, танцуя со своим кавалером, хотя он и нравился ей. В Яворове она много видела кавалеров, но с такими огненными ей никогда не приходилось танцевать и никто из них не прижимал ее так к своей груди, как этот дракон. Но ведь она не могла ему противиться, что же ей было делать.
Остальные пары танцующих составляли панна Каминская, пани Керемовичева и пани Нересовичева. Эти последние, хотя и были мещанки, но за их светское обращение и богатство были приняты в общество. Навирач и два анардрата все с большим и большим удивлением следили за польскими танцами, глядя, с каким увлечением танцевали поляки. Тем временем разговоры между стариками за кубками меда становились все шумнее, хотя музыка так громко играла, что почти заглушала голоса.
Кончив танец и еле дыша, Бася подбежала к мужу и, сложив перед ним руки, сказала:
– Михалку! Солдатам так холодно за окнами, прикажи дать им бочку вина!
Володыевский чувствовал себя в прекрасном настроении и стал целовать лицо жены.
– Кровь свою готов отдать, чтоб тебя только потешить! – воскликнул он.
Затем он вышел во двор и сообщил солдатам, по чьей милости им выдано будет вино: комендант желал, чтобы его Басе были благодарны и любили ее.
В ответ на слова Володыевского солдаты так громко крикнули, что даже снег повалился с крыши.
– А пальните-ка из мушкетов на vivat пани!.. – крикнул солдатам пан Михаил.
Когда Володыевский вернулся в комнату, Бася танцевала с Азыей. Этот последний, обвив рукою стан молодой женщины и почувствовав на своем лице ее горячее дыхание, забыл все на свете и в этот момент готов был отказаться, за обладание Басей, от рая и от всех гурий его.
Во время танцев Бася заметила Еву, и, обратясь к Азые, с любопытством спросила его:
– А что, пан, не объяснились еще в любви?
– Нет.
– Почему?
– Еще не время, – отвечал татарин с особенным выражением в глазах.
– А очень вы ее любите?
– Насмерть, насмерть! – воскликнул Тугай тихим, но несколько хриплым голосом, похожим на карканье вороны.
Теперь они танцевали за Нововейским, стоявшим с Зосей в первой паре и не сменившим ее ни разу на другую даму; он только ненадолго сажал ее на скамью для отдыха и затем продолжал танцевать с тем же увлечением.
Вдруг он остановился перед музыкантами и, обняв одной рукой свою даму, а другой подбоченясь, крикнул:
– Краковяк, музыканты! Ну!
И затем, под раздавшиеся звуки краковяка, Адам стал притопывать, гремя шпорами и громко припевая басом:
Струится чистый ручеекИ гинет он в Днестре.Так и в тебе, моя дивчина,Гинет мое сердце.У-га!..Последнее слово стиха – «у-га» – он крикнул так громко, по-казацки, что Зося от испуга присела; не менее ее испугались важный навирач и два ученые анардрата, но певец не обращал на них никакого внимания, продолжая танцевать. Протанцевав два раза кругом комнаты, он снова остановился перед музыкантами и продолжал петь:
Гинет да не сгинет,Несмотря на быстрый Днестр.Он с его глубиныПерстенек поднимет.У-га!..– Очень ловкие стихи! – заметил пан Заглоба. – Я знаток по этой части, немало сочинил их в своей молодости. Лови, кавалер, лови! А когда достанешь перстенек, я спою тебе такую песенку:
Кажда девка – губка;
Каждый хлоп – кремень.
Можно высечь искру:
Но высекайте поскорей!
У-га!
– Vivat! Vivat пан Заглоба! – закричали офицеры и все общество так громко, что снова перепугали и навирача и обоих ученых, с изумлением глядевших друг на друга. Между тем молодой Нововейский, протанцевав еще два тура, посадил свою еле дышавшую и перепуганную даму, которой он все-таки очень нравился за ловкость и смелость, каких она еще в своей жизни никогда не встречала; и в смущении она низко опустила свои глазки и сидела очень смирно.
– О чем вы задумались? – спросил пан Нововейский.
– Отец мой в неволе, – отвечала Зося тоненьким голоском.
– Это ничего, – возразил он, – все-таки потанцевать не мешает. Посмотрите на эту комнату: тут нас собралось несколько десятков воинов, и ни один, конечно, не умрет своею смертью: тот падет от стрелы татарина, другой умрет в неволе. Один, может, сегодня, другой – завтра! Каждый кого-нибудь из своих утратил в битве, но мы все-таки должны веселиться, чтоб Господь не подумал, что мы ропщем на нашу службу! Вот что!.. Потанцевать никогда не мешает! Улыбнитесь же, покажите мне глазки, а то я подумаю, что панна меня ненавидит!
Зося не взглянула на него, но стала едва заметно улыбаться, вследствие, чего у нее на щечках образовались ямочки.
– Любишь ли ты меня, панна, хоть немножко? – спросил снова кавалер.
– Конечно, – сказала тихо Зося.
Получив такой ответ, Адам подскочил на лавке, схватил руки Зоси и стал их целовать.
– Все пропало! – говорил он. – Что будешь делать! Я влюбился в панну насмерть! Никого мне не нужно, кроме панны. Мое дорогое счастье! Ура! Как я люблю панну! Завтра упаду к ногам вашей матери! Не завтра, нет! Сегодня же, – я хочу быть уверенным, что мне не откажут!
В это время раздались за окном выстрелы, и ответ Зоси был заглушён ими. Благодарные Басе солдаты палили в честь нее. Эти выстрелы потрясали и окна, и стены, и навирачу, а с ним и двум ученым пришлось испугаться в третий раз; но пан Заглоба постарался успокоить их, говоря по латыни:
– Poloni nunquam sine clamore et strepitu gaudent![19]
Гром выстрелов еще больше оживил общество. Порою уже между обыкновенной светской вежливостью стала проглядывать и степная дикость. Под гром музыки танцы возобновились еще с большим увлечением. Произносились громкие спичи, пили из башмачка Баси за ее здоровье, стреляли из пистолетов, избрав целью каблучки Евы. Старики, наглядевшись на молодежь, также пустились в пляс. До самого утра продолжался пир, сопровождаемый гулом, громом, пляской и пением; даже все дикие звери скрылись в глубь леса от такого гама.
И все веселье происходило чуть не накануне войны с турками, и немало удивляли воины своим беспечным весельем важного навирача и двоих ученых, так как над головами этих воинов нависла уже смерть.
Глава XIV
Не мудрено, что на другой день все встали очень поздно, кроме сторожевых солдат да коменданта, не позволявшего себе никогда никакого уклонения от службы. Молодой Нововейский также поднялся рано: ему не давала спать дума о Зосе. Тщательно одевшись, он пошел в комнату, где вчера танцевали, и стал прислушиваться, не донесется ли до него какой-нибудь шум из комнат, занимаемых дамами.
И действительно, он услышал шорох в комнате пани Боска, но этого ему было мало. Ему хотелось как можно скорее увидеть Зосю, и он начал кинжалом выковыривать землю между балок, чтобы можно было взглянуть на милую хоть одним глазом.
В это время пан Заглоба пришел в эту же комнату с четками в руках Догадавшись, о чем хлопочет молодой пан, он подкрался к нему на цыпочках и начал бить его по плечам сандаловыми четками.
Рыцарь отскочил от старика, уклоняясь от его ударов и стараясь смеяться непринужденно, но смущение его было все-таки очень заметно, Заглоба же бегал за ним, ударяя его четками и повторяя:
– Вот турок, вот татарин, вот тебе! Вот тебе!.. Где нравственность? За женщинами подглядывать?.. Вот тебе! Вот тебе!
– Дорогой пан! – восклицал Нововейский. – Не годится из святых четок делать плеть! Простите, дурного намерения я, право, не имел.
– Не годится, говоришь ты, бить святыми четками? Неправда!
– Если настоящие сандаловые, то должны пахнуть.
– Мне пахнет четками, тебе дивчиной. Мне хочется еще потрепать тебе плечи, потому что для изгнания злого духа из тела нет ничего лучше четок.
– Клянусь честью, у меня не было дурного намерения.
– Что ж, ты из набожности, верно, дырки в стене продалбливал, а?
– Не из набожности, но от любви, до такой степени необыкновенной, что удивляюсь, если она не разорвет мена как бомба. Я говорю правду! Слепни так сильно не докучают лошадям, как терзает меня эта любовь!
– Смотри, едва ли твое желание было безгрешно: пробивая дырки, ты стоял на этом месте, словно на горячих угольях.