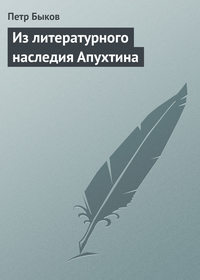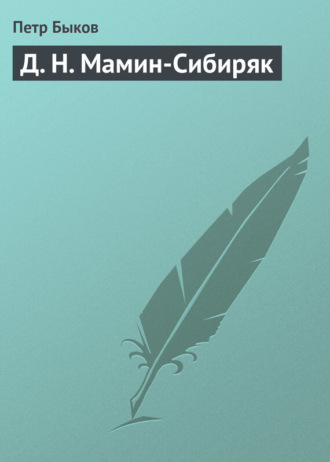 полная версия
полная версияД. Н. Мамин-Сибиряк
С появлением «Бойцов», «Приваловских миллионов» и «Горного гнезда» репутация Мамина-Сибиряка, как бытописателя Урала, отмежевавшего себе видное место в нашей художественной литературе, вполне упрочилась. Писатель окреп и окончательно сложился, покончив с неуверенностью, вполне овладев формой, выработав свой язык, красивый, сочный, простой. Он работает неутомимо над богатым материалом, который увеличивается после каждой поездки писателя по Уралу. Публика с интересом останавливает внимание на мелких рассказах Дмитрия Наркисовича. Одновременно с «Горным гнездом» в наших ежемесячниках он напечатал: очерк «Айва», «Башка. Из рассказов о погибших детях», «Жилка. Из рассказов о золоте», переименованный позднее в «Дикое счастье», и из той же серии – рассказ «Золотая ночь», «На шихане. Из рассказов охотника» и др. Характерен рассказ «На шихане», написанный на тему привязанности человека к животным. Эта тема, кстати сказать, проходит красной нитью через многие очерки писателя, любовно, нежно относящегося к четвероногим и пернатым спутникам нашим на жизненном нуги. По обыкновению восхищаясь богатырями даже в миниатюре, даже безумием храбрости, удали, Мамин выводит здесь полунищего охотника, убийцу и острожника Савку, который питает ненависть ко всякой жестокости, насилию и трогательно любит животных. Когда заводский главноуправляющий «за непослушание» стреляет в свою собаку Весту, возмущенный Савка бросается на этого главноуправляющего, немца «Карлу», и чисто по-волчьи хватает его за горло и, быть-может, порешил бы с ним, если б грубого немца не спасли объездчики. По разъяснению Савки, он оттого полон любви ко всякому животному, что всякое животное справедливее человека. Зверье «лютует от голода, ибо ему есть хочется, а человек и сытый, пожалуй, лютее зверя. Зверь это знает, и потому больше всего страшится человека. Эх, Господи милосливый, сколько это греха в нас, сколько неправды!» – восклицает острожник и пьяница Савка. Едва ли кто из патентованных интеллигентов способен так, как Савка, отозваться на жестокость, на бесцельное зверство сильных, подобных немцу «Карле». Савка и пьет горькую оттого, что вечно мучится торжеством зла, гнетом неправды, владычеством греха. Сколько глубокого смысла и в этом очерке и в рассказе «Башка», где действующими лицами являются посетители какого-то грязного притона в роде покойной Вяземской лавры в Петрограде, среди которых у одного пропойцы и забулдыги, занимавшегося писанием просьб и жалоб за деньги, вдруг воскресает образ Божий, и падший человек преисполняется необычайной жалостью к погибшей женщине, бывшей актрисе. Она видит удивительные сны, видит себя невинным ребенком и возбуждает смех собутыльников когда передает об этих снах в притоне. Только пьяница «Башка» не смеется и исполнен каких-то странных, обновляющих дум. Когда эта бывшая актриса, прозвищем Фигура Ивановна, занемогла, «Башка» на скудный свой заработок купил ей нежную батистовую сорочку, такую, в какой она видела себя во сне. Выздоровев, Фигура Ивановна пропила в притоне рубашку, тайно положенную ей под подушку «Башкой», и последний от страшного огорчения куда-то пропал, и больше его уже не видали в притоне.
Очень колоритен рассказ «Жилка» (или «Дикое счастье»), где писатель проводит свою излюбленную идею о стихийных силах, слепо действующих в жизни, господствующих над людьми, ломающих их волю, убивающих рассудок. Это наиболее типичное произведение писателя, посвященное изображению золотых промыслов. В «Диком счастье» ярко представлено, под влиянием жажды золота, распадение купеческой семьи Брагиных, которая жила по старине и могла похвалиться своей крепостью, верностью дедовским заветам. Степенностью, чинностью и строгостью отличались старшие члены брагинской семьи, поддерживали хороший дух в доме и мир в патриархальной семье. И вот судьба послала старику Брагину прииск. «Жилка» произвела переворот в его душе: в ней зародилась зависть к тем, кто разбогател «через это самое золото», и Гордей Брагин очутился в семье золотопромышленников, связался с людьми, не имеющими ничего общего со старыми заветами. В тихом доме начались кутежи ради горного инженера Лапшина, помогшего Брагину обойти закон, воспрещавший разработку жильного золота частным лицам. Гордей Брагин совсем помешался на жажде наживы, превратился в жадного эгоиста, сухого, бессердечного даже к родным, заразившего своим эгоизмом и старуху-мать. Сыновья, которых Гордей держал в черном теле и морил непосильной работой, стали обкрадывать отца и вести разгульную жизнь. Тот же инженер Лапшин, рассерженный Брагиным, однажды донес на него. «Жилку» отобрали в казну, Гордей разорился, но все перенес, зная, что у него еще осталось десять тысяч, которые он отдал спрятать матери. А когда она объявила сыну, что не знает, о каких-таких деньгах он говорит, старик не вынес и внезапно умер. Старуха-мать сделалась еще скупее, скареднее до болезни и голодом сморила семью. Светлой точкой на этом темном фоне является Нюша Гордеева, которую не задела стихийная сила – золото. её образ прекрасно очерчен в романе, представляющем широко задуманную и прекрасно выполненную картину, где разные явления сгруппированы в нечто стройное, являющее собою строгую систему.
Спустя два года после появления «Горного гнезда», Мамин-Сибиряк выступил с новой крупной вещью – романом «На улице», вышедшим позднее в отдельном издании под заглавием «Бурный поток». Эту вещь один из критиков называет «естественным продолжением» «Горного гнезда», потому что в ней как бы слышится отголосок монолога пьяницы Прозорова из «Горного гнезда», обращенного к Раисе Павловне после «разъезда карет», по окончании парадного обеда, данного заводской компании генералом Блиновым. В этом монологе Прозоров плачет о том, что ныне честной женщине нечего делать, что все, и наука и искусство попадают в кабалу к золотому тельцу, и что всюду стремится царить безграничная подлость. На Прозоровском монологе и построен роман «На улице», где перед нами во всей своеобразной «прелести» царит удивительный мир высокопробных дельцов обоего пола, продажных светочей науки, представителей печати. Это – громадная петроградская улица, со своей беспредельной, могучей властью, в высшей степени оживленный базар суеты, тщеславия, на котором по сходной цене покупаются дарования, знания, настойчивость, изворотливость, имена, честь, совесть, – все, что угодно нуждающимся набобам в роде Лаптева. Рынок этот существует для самого широкого пользования капитала, являющегося «серьезным покупателем» подобных ценностей особого рода. Он как самая заразная язва действует на талант, на все выдающееся, отзывчивое. Это очень наглядно показал писатель в своем романе, беспощадно выводя на свет Божий и непорядочных и порядочных людей, подпавших под власть улицы. Тут разные представители современного общества: Покатилов, даровитый и симпатичный журналист с «неорганизованным характером» (по определению его подруги, англичанки Бэтси), пишущий фельетоны в маленькой газетке и полный мечтами об основании собственного большего органа, прожектер Мороз-Доганский, красавица Сусанна, его супруга, и еще всякие денежные тузы и публицист по экономическим вопросам Чвоков. Мороз-Доганский нуждается в органе, который мог бы служить его темным делишкам, и потому дает Покатилову деньги на газету. Она сразу приобретает известность; её подписка растет, и Покатилов пожинает лавры, сделавшись завоевателем улицы. Но, как в старинной песенке поется: «на счастье прочно всяк надежду кинь» – Мороз-Доганский разоряет Покатилова, сам прогорает и кончает самоубийством.
Между прочим, Мороз-Доганский обирал, с помощью своей красавицы-жены, некоего Теплоухова, капиталиста-чудака, человека ненормального. После скоропостижной смерти Теплоухова возбуждается процесс довольно грязного свойства. Покатилов очутился на скамье подсудимых за подложный вексель, и на ту же скамью попадает и Сусанна Мороз-Доганская, в которую давно влюблен Покатилов. Прекрасная пара, соединившись, ссылается в Сибирь. Улица скушала их. Она «приобрела» также и Чвокова, талантливого экономиста… Интересно задуманы и превосходно исполнены почти все лица этого романа, сделавшиеся жертвами улицы. Великолепна характеристика экономиста, сделанная им самим. «Что же, я и не думаю оправдывать себя, – кается он Покатилову: – mea culpa – mea maxima culpa. Но, голубчик мой, ведь деваться некуда умному человеку. Много нас таких ученых подлецов развилось. Время такое, братику. Пока умные да честные люди хорошие слова разговаривали, подлецы да дураки успели все дела переделать. Каюсь: повинен свинству, но заслуживаю снисхождения, поелику проделываю оное великое свинство не один, а в самом благовоспитанном обществе. Ей-Богу, иногда кажется, что какая-то фантасмагория происходит, и сам удивляешься себе…» Новые времена, выдвинувшие улицу с её темными промышленниками и тузами капитала, всосали в себя и обезобразили нравственно Сусанну Мороз-Доганскую, преобразив ее чуть не в продажную тварь. А от природы она была совсем не такая, проявляла много симпатичности, тонкости чувств, чуткости. Очень удался автору образ этой несчастной жертвы «бурного потока», захлестывающих волн улицы. Мамин-Сибиряк отлично справился со своей задачей – показать наглядно, как надвигалась со всем её ужасом капиталистическая пора, сопровождавшая свое движение отчаянной ломкой старого уклада жизни, старых идеалов, ничего не создав для трудящихся масс и только произведя брожение, растерянность, шатание мысли, хаотичность, разруху. В этом романе писатель оставил на время свой излюбленный Урал со всеми его прошлыми и более близкими к нашему времени переживаниями и обратился к жизни интеллигентных классов, переживающих дни поразительных недоразумений, не могущих оглядеться при внезапно нахлынувшей новой волне, гонимой вихрем буржуазии. И здесь писатель проявил огромную наблюдательность, способность подмечать характерные черты времени, такие мелочи, из которых складывается нечто целое, крупное и которые для другого писателя показались бы незначительными, нестоящими внимания. Мамин-Сибиряк таким образом показал, что он – не только певец Урала, бытописатель горнозаводской жизни, но и талантливый отражатель русской жизни вообще и современной в особенности.
Очень незадолго перед переселением Мамина-Сибиряка в Петроград, после длинного ряда его рассказов и очерков («Нужно поощрять искусство», «Золотопромышленники», «Отрава», «Самоцветы», «Гнездо пауков», «Летные», «Жизнь хороша» и проч.), появилась новая крупная его вещь «Три конца» – длинная и обстоятельная уральская летопись, представляющая собою что-то грандиозное, великолепное, производящее сильное впечатление. Ключевской завод, подобно всем заводским поселениям Урала, заселялся частью крепостными крестьянами, которых заводовладельцы переселяли из наших внутренних губерний, а частью беглецами, спасавшимися от жестокостей, притеснений и вообще несладкой жизни у своих бар, а также и от религиозных преследований. Получились элементы чрезвычайно разнородные, приносившие с собою на новые места их водворения свой старый уклад жизни. И каждый из этих элементов оставался верен ему в целом ряду поколений, не сливаясь с прочими поселенцами, которые были для него вполне чужими и по духу, и по нравам и обычаям. Каждая группа односельчан смотрела на остальные враждебно, считала себя лучшею по своему укладу, по вере. Таким образом на заводе возникли «концы» – Кержацкий, Хохлацкий и Туляцкий. Они то и послужили Мамину-Сибиряку благодарной темой для его романа, где автор пытался проследить судьбу «трех концов», населенных крестьянами, прикрепленными к Ключевским заводам, судьбу вывезенных людей из Малороссии, Тульской губернии – составлявших два конца, и местных раскольников, или «кержаков», живущих, каждый, стихийной, напряженной жизнью. Действие романа происходит еще при крепостном праве и затем при переходе заводских масс от крепостного труда к вольнонаемному.
На широком полотне картины Мамина-Сибиряка – множество самых разнообразных фигур и представлены жизнь и взаимные отношения «трех концов»; богатейшие типы раскольников, мужчин и женщин, и вообще уральских фигур, «часть которых теперь уже умерла и выброшена жизнью, часть изменилась и применилась к новым условиям, а часть и выступила на поверхность жизни только благодаря этим условиям». Особенно ярко обрисованы здесь раскольники, с их крепостью в вере и нетерпимостью к другим – «мочеганам», богатые и бедные, глупые и умные, слабые и сильные, честные и бесчестные. Вот грубая старица Енафа, держащая в ежовых рукавицах свой скит в глухой местности; богач Груздев, только числящийся в староверах, а на самом деле вечно толкающийся между «мочеганами», хлеботорговец и владелец питейных заведений, из самых влиятельных; вот «смиренный инок» Кирилл, в прошлом каторжанин, раб зверских, необузданных страстей, душа мятущаяся, ищущая «правды Божией»; злополучная Аграфена, она же и черница Аглаида, замаливающая в скитах тяжкий грех свой, и другие. А на ряду с ними «мочегане» – старик Тит Горбатый. Коваль, заводский управляющий Голиковский, Петр Мухин, лучший из заводских людей, наконец героиня Нюрочка, нарисованная в самых светлых тонах и не гибнущая среди остальных героев «Трех концов». Жизнь её слагается счастливо: она выходит замуж за хорошего человека, который еще с детства полюбился ей; с ним идет она рука об руку и занимается честным делом – просвещением темных масс, в качестве, учительницы народной школы. Однако и она, слушая начетчицу Таисию, раскольничью мастерицу «с головою уходила в этот мир разных жестокостей, неправды, крови и слез, и её сердце содрогалось от ужаса. Господи, как страшно жить на свете, особенно женщинам! Действительность проходила пород её глазами в ярких картинах греха, человеконенавистничества и крови»…
Один из критиков находит, что автор «Трех концов» вовсе не является защитником раскола, и сопоставляет его с Печерским (Мельниковым), автором «В лесах» и «На горах», известнейшим расколоведом-художником. Но в то время, как Печерский нередко в своих романах клевещет, Мамин-Сибиряк говорит только правду и, даже изображая симпатичных ему людей из этого мира, «не сгущает розовых красок», оставаясь всюду строгим объективистом, иногда сухим беллетристом-фотографом. «Мамин, по мнению этого критика. – отворяет перед нами двери скитских тайников, и удушливой, зловещей атмосферой средневековья веет на вас оттуда. Плети, поклоны, скрытый разврат, невежество, зависть, корысть, детоубийства… Ужас! А это „святая святых“, это – духовное убежище десятков тысяч, грубо, мелочно, односторонне, в букве, а не в духе и истине», но все же «ищущих Бога и вечной правды Его». Страшно, но чувствуется, что автор не лжет, даже не преувеличивает, не «творит» никаких рискованных «легенд», а рисует прямо с жизни подлинную жизнь. Но подождите, – замечает далее критик, возмущаться, не дочитавши роман до конца, делать выводы и заключения об уральских старообрядцах и их наставниках. Жестокость и суеверие борются в них с живым исканием правды, и высекаются порой, в этой упорной борьбе, яркия искры, освещающие мрак лицемерия, преступления, лжи. Посмотрите, какими ясными, любовными красками рисует романист знаменитое на Урале паломничество старообрядцев всех согласий на Крестовые острова, куда и в наше время, каждый год, к могилам благоговейно чтимых раскольничьих подвижников «со всех сторон боголюбивые народы идут: из-под Москвы, с Нижнего, с Поволжья, чтобы молиться среди леса, под открытым небом. И небо и лес, и цветы и птицы оставляют на всех свой ясный, благодатный след».
Помимо картин раскольничьей жизни и её выяснения во всех отношениях, в «Трех концах» живописно изображена история развития экономического быта заводской массы, история хода капиталистического процесса в поселках, а также разных моментов, когда старое боролось с новым, отчего происходила видимая ясно сумятица, как старый уклад исчез, а представители старого строя остались со своим невежеством и с крепостными вожделениями. Романист искусно набрасывает картину, как представители старого щучьего закала сошлись с новыми людьми и как этот замечательный союз дельцов старой и новой эпохи обобрал на голо заводскую массу, а дельцы новой эпохи, кроме того, установили тот капиталистический режим, благодаря которому порвались последние связи рабочего с определенным местом и определенными людьми. Так из старых союзов выделилась новая клеточка – безземельный рабочий, свободный от власти патриархальной семьи, от полукрепостных, личных связей с определенным местом и определенными людьми – «клеточка, которая растет не по дням, а по часам», как говорит автор еще в «Бойцах». Роман «Три конца» полон и этнографического интереса и тех «человеческих документов» достаточной ценности, которые очень пригодятся историку Урала. Романист таким образом сыграл здесь роль и этнографа и историка, не говоря о внимательном бытописателе, который во множестве характерных положений, сцен и лиц, выхваченных непосредственно из действительности, воспроизвел прошлое Урала и времена, близкия к нашим дням. У него прекрасно изображены взаимные отношения обитателей «концов», раскинувших свои жилища по берегам трех горных речек Урьи, Сойги и Култыма, этнографические особенности этих обитателей, стремящихся переделать по-своему чуждые им условия жизни, в которые они попали, подчинить их себе. Автор повествует нам и о тоске по земле малороссов и тулячков, оторванных от неё, выхваченных из родной среды земледельцев и насильственно притиснутых к заводскому труду. Яркия страницы отведены хаотическому брожению, возникшему среди люда, чуждого друг другу по происхождению, по религии и по прошлому, скованных вместе, воедино цепью ржавой крепостничества, которая не выдержала, лопнула и, говоря словами поэта, ударила «одним концом по барину, другим по мужику», – брожению, которое проявилось в первых неудачных попытках к переселению «в орду», первых забастовках и первых массовых выселениях «на вольные работы» заводского населения.
В «Трех концах» писатель остается верен своему обычному мировоззрению. И здесь в ярких красках выражена все та же тайна жизни, заключающаяся во взаимном питании одной твари другою, и здесь повторяется неизбежная разруха, характеризующая родную жизнь и вылившаяся в гибели дела и людей. Гибнут чугунноплавильные заводы, кончают самоубийством люди. Отец героини романа, Нюрочки, Петр Елисеевич Мухин сходить с ума, старовер-хлеботорговец разоряется, а убитых и раненых и не счесть… Итог получается мрачный. И вот заключительная картина этой жизненной катастрофы. «Половина изб стояла с заколоченными окнами. Лето прошло невеселое: мужики да бабы с подростками. Почти все мужское население разбрелось, куда глаза глядят, побросав дома и семьи. Случилось что-то стихийно-ужасное, как поветрие или засуха. На покосах больше не пели веселых песен и не курились покосные огоньки, точно пронеслось мертвое дуновение. Раньше на время делалась мертвой одна фабрика, а теперь замерло вместе с фабрикою и все живое… В Ключевском заводе безмолвствовали все три конца, как безмолвствовали фабрика и медный рудник. Бездействовавшая фабрика походила на парализованное сердце: она остановилась, и все кругом омертвело». Никаких, ни световых ни звуковых эффектов в этом произведении нет, – рассказ простой, как будто даже суховатый, а меж тем картина эта наводит грусть и тяжелые думы. Однако в маминском рассказе, по замечанию одного критика, «не чувствуется ни ужаса ни усталости от подобных картин: даже в этих варварских формах, под гнетом заводского режима, все население „трех концов“ живет стихийной интенсивной жизнью». Тон повествования именно жизненный. Может быть, бессмысленная, дикая и часто зверская возня, а не человеческое существование, но все же не покой, не застой, не мертвечина. А вот «итоги» и «резюме» – мертвенно-унылые и безнадежные. Богатство содержания в «Трех концах» действует захватывающе на читателя, который с громадным интересом идет вслед за автором в раскольничьи скиты, возникшие в такой глуши, в таких лесных дебрях, куда раньше не заходила ни одна человеческая нога, присутствует при облавах на разбойников, или в заводе, где выбиваются из сил в непрестанном труде, при разных драматических сценах – и не ропщет, потому что все это полно высокого интереса и значения, потому что здесь жизни много и лица списаны с натуры.
«Три конца» появились в 1890 году, а в следующем Дмитрий Наркисович предпринял вторичную поездку в Петроград. Приехал он в столицу уже с большим, именем, полный надежд и порывов, с верой к свое призвание, в свою звезду, которая, разгоралась ярче и ярче. Второй петроградский период жизни Дмитрия Наркисовича, во время которого он, впрочем, целых двенадцать лет прожил в Царском Селе, – ознаменовался большой творческой работой, приведением в порядок и использованием огромного материала, привезенного писателем с Урала, причем этот материал пополнялся с помощью непрекращавшихся связей Дмитрия Наркисовича с родными местами, с провинцией вообще. Столица встретила писателя радушно, можно сказать, с почетом, в литературном мире его оценили по достоинству, и недаром, еще живя в родных местах, он говорил матери своей, Анне Семеновне: «Мое время еще не пришло – меня оценят только в будущем»! И он угадал, потому что настоящая оценка деятельности певца Урала и Сибири сделана была не скоро. Раньше его не признавали художником, например, H. К. Михайловский, находившийся с ним в очень дружественных отношениях, считал Мамина-Сибиряка только даровитым и трудолюбивым этнографом, но потом он высоко ставил многие вещи Дмитрия Наркисовича, между прочим, «Черты из жизни Пепко», и очень ценил сотрудничество писателя в «Русском Богатстве». Прежде и А. М. Скабичевский не ценил Дмитрия Наркисовича По поводу своих литературных успехов, письменно беседуя с матерью, Дмитрий Наркисович вспоминает об этом. «К моим именинам, – пишет он (27 октября 1899 г.), – подошла и статья обо мне Скабичевского в „Новом Слове“. Старик размахнулся и даже поставил меня превыше облака ходячего, чего уж совсем не следовало делать. Напрасно он сравнивает меня с Золя и еще более напрасно ругает последнего, чтобы вящше превознести меня. Мною крови он испортил мне раньше, т.-е. Скабичевский, а теперь хвалит. Благодарю Бога, что я пережил свой критический литературный период без всякой посторонней поддержки и пробил дорогу себе сам, так что сейчас для меня похвала Скабичевского имеет значение только в… торговом смысле, т.-е. для продажи изданий, хотя честь лучше бесчестья».
Когда Дмитрий Наркисович приехал в Петроград и об этом узнали в литературных кружках, редакция нового журнала «Мир Божий» попросила своего представителя, Виктора Петровича Острогорского, съездить к Сибиряку и заручиться его согласием на постоянное сотрудничество. «Для первого знакомства» Дмитрий Наркисович вручил «почетному послу» рукопись рассказа своего «Зимовье на Студеной». Это прекрасная, истинно-художественная вещь, где рассказана история одинокого, стоящего одной ногой в могиле, старика и его друга такой же одинокой и стареющейся собаки. Радостью в их монотонном существовании является даже петух, привезенный старику в подарок. Но за радостью следует скорбь: собака заболевает и умирает. И тут уже для старика наступает мрачное одиночество. Он пытается оставить свое жилье в глуши и перебраться поближе к людскому обществу, но дорога длинна, силы плохи, и в снегу он находит свой конец. «Ни героев, ни злодеев, ни пылких любовников, ни экскурсий в область вымученных неестественных переживаний, а между тем слезы стоять на глазах, когда дочитываешь рассказ, и тысяча самых ярких страниц, прочитанных потом, не сотрут его в памяти» говорит один критика по поводу «Зимовья на Студеной», по его мнению – одного из тех немногих произведений в нашей небогатой художественной литературе бытового характера, от которых веет трогательной правдой и которые никогда не забываются. Едва ли кому из наших беллетристов приходилось проявлять столько любви, задушевности и нежной вдумчивости при изображении привязанности одинокого человека, обитающего где-нибудь в глуши, к животному, с которым ему суждено нести заботы, вместе претерпевать опасности, делить удачи, маленькие радости, – как Мамину. Этот рассказ невольно наводит на мысль о прекрасной душе писателя, о его человечности, чуткости.
У Дмитрия Наркисовича завязалось тесное общение с журналом «Мир Божий», и, войдя в его редакционный кружок, он сблизился с Александрой Аркадьевной Давыдовой. издательницей журнала, и всей её семьей. В литературном салоне этой выдающейся русской женщины Дмитрий Наркисович перезнакомился со многими писателями и сошелся с Глебом Успенским и H. К. Михайловским. Но свидетельству Елисаветы Наркисовны Удинцевой, сестры Дмитрия Наркисовича, Михайловский очень любил её брата, был даже нежен с ним, а брат прямо благоговел перед критиком-философом. Это было восторженное отношение младшего к старшему, преклонение ученика перед учителем. Когда Михайловский умер, Дмитрий Наркисович был потрясен, и на всех его письмах того периода лежит тень искренней, глубокой скорби. Михайловский и Давыдова были восприемниками при крещении его дочери Елены, родившейся в 1892 году и потерявшей мать через несколько дней после своего рождения. Трогательно любил Дмитрий Наркисович свою мать, до обожания, а когда появилась на свет его дочь, которую он стал называть Аленушкой, это обожание раздвоилось. Ради Аленушки он переехал в Царское-Село и для неё же вернулся в это благодатное по климату место после трехлетнего пребывания в Петрограде, когда Аленушке стал окончательно неприятен большой суетный город. Ради Аленушки Мамин сделался детским писателем и издал «Аленушкины сказки». Он вообще любил детей, с видимым удовольствием возился с ними. Это можно, между прочим, заключить из воспоминаний Л. А. Куприной, дочери известного писателя, о Дмитрие Наркнсовиче, которого она знала совсем маленькой. «Помню, – рассказывает она, – как он одевал медвежью шкуру и пугал меня. Я от него убегала, а он догонял меня на четвереньках, влезал под рояль и прятался за стулья. Когда я подходила к нему пожелать доброго утра, он другой раз делал вид, что не замечает меня, и закрывался газетой; я начинала сердиться и барабанить руками по газете, желая, чтобы дедушка (так я называла Д. Н. Мамина) поборолся со мной, на что он почти всегда соглашался… Когда я не слушалась, он говорил, что съест меня. И играл он со мной в куклы и в солдаты, как ребенок». Дмитрий Наркисович был сам не свой, когда ему приходилось расставаться с Аленушкой. В одном из писем, упоминая о своем обожаемом ребенке, он дает клятву писать для детей и, между прочим, говорит: «если бы знала эта крошка, что с собой она несет всю мою детскую литературу». Кстати сказать, в деятельности Дмитрия Наркисовича эта область его творчества стоить совершенно особняком.