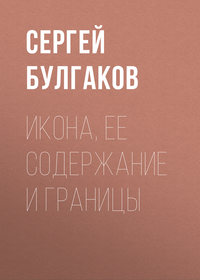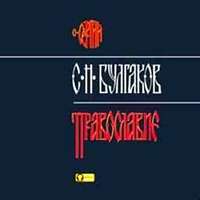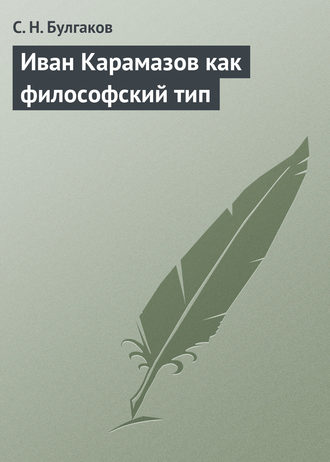 полная версия
полная версияИван Карамазов как философский тип
Есть что-то подлинно русское в этой простоте и отсутствии всяких внешних обстановочных эффектов, с которыми выражены здесь великие идеи.
В такой-то обстановке братья впервые знакомятся между собою. Иван дает ответ на молчаливый вопрос Алеши: «во что верует и чем живет его любимый брат». Сначала Иван в духе позитивизма говорит, что где моему «звклидовскому земному» уму «про Бога понять» и решить, есть ли Он. Но затем продолжает: «…принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю премудрость Его, и цель Его, нам совершенно уже неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое „бе к Богу“ и которое есть само Бог, ну, и прочее, и прочее, и т. д. в бесконечность. Слов-то много на этот счет наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге – а? Ну, так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего не принимаю, и хоть знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страданья заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького как атом человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми; пусть, пусть все это будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять!»
Иван не хочет принять своим «эвклидовским» умом целесообразность и разумность человеческих страданий. О всех «слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра – я уж ни слова не говорю… Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть», Но детки невинны, они не «съели яблоко», на их страданиях яснее поэтому ненужность, бессмысленность страданий вообще. И вот идут ужасные страницы о детках, зарезанных, застреленных в момент, когда дитя играючи тянулось за пистолетом, томимых в скверном месте, истязаемых, затравленных собаками на глазах у матери, – длинная, кровавая галерея. «Совсем непонятно, – гремит Иван, – для чего должны были страдать и они и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию?» Иван отказывается от гармонии за такую цену. «Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к „Боженьке“! Не стоит, потому что слезки остались не искупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уж замучены?» – «Слишком дорого оценили гармонию, – заключает Иван, – не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если я только честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билет Ему почтительнейше возвращаю». – «Это бунт», – тихо и потупившись проговорил Алеша[4]. Да, это бунт, бунт человека против Бога, или, выражая ту же мысль на атеистический манер, – бунт бессильной человеческой личности против объективного порядка вещей. Пламенный дух байроновского Каина, дух мировой скорби воскрес в Иване! Иван отвечает Алеше: «Бунт. Я бы не хотел от тебя такого слова. Можно ли жить бунтом, а я хочу жить;». Да, бунтом нельзя жить, и это настроение или это миропонимание нужно как-нибудь победить или пережить, иначе исхода нет.
Кривое зеркало души Ивана, его черт, с пошлой насмешливостью развивает ту же идею необходимости зла в мировой дисгармонии. Он противопоставляет себя Мефистофелю, который всегда хочет зла. «Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и хочет добра». Черт рассказывает, как и ему хотелось крикнуть «осанна», но «что же бы вышло из моей-то осанны? Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий, И вот, единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости». «Я знаю, – жалуется черт, – тут есть секрет, мне ни за что не хотят его открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, в чем дело, рявкну „осанну“, и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благополучие». «Будирую и скрепя сердце исполняю свое назначение: губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтоб получить одного только Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя». Иван стонет от этого издевательства черта над его идеями.
Вопрос, который с такой трагической силой и безумной отвагой ставит здесь Иван, вопрос о происхождении и значении зла в мире и разумности мирового порядка, есть вековечный вопрос метафизики, старый как мир, вопрос, который со времен Лейбница стал называться проблемой теодицеи{8}. На этот вопрос отвечали и богословы, для которых он формулируется в проблему промысла Божьего, и философы, – и оптимисты, как Лейбниц, и пессимисты, как злой его критик Вольтер или Шопенгауэр и Эд. Гартман, и спиритуалисты, и материалисты, и деисты, и атеисты. Не нужно думать, что этот вопрос задавался только религиозным воззрением, он остается и для атеистического, с еще большей силой подчеркивающего гармонию будущего, которая покупается, однако, дисгармонией настоящего. Примером такого мировоззрения может служить современное материалистическое понимание истории и основанное на нем учение социализма: будущая гармония социализма покупается здесь неизбежною жертвой страданий капитализма: «муки родов» нового общества, по известному сравнению Маркса, неустранимы[5]. Следовательно, с полным правом и с полной силой и здесь можно поставить вопрос Ивана о цене этой будущей гармонии, и, конечно, его неизбежно ставит себе каждая сознательная личность. Нет и не может быть универсальной философской системы, которая не посчиталась бы с этим вопросом в полном объеме. Это есть в полном смысле слова мировой вопрос; особенность его в качестве такового состоит не только в его неотвязности, но и в неразрешимости в том смысле, что никакой прогресс науки, никакая сила мысли не может дать ему такого решения, которое уничтожило бы самый вопрос. Напротив, как бы совершенно он ни был, казалось, разрешен одним философом, он обязательно должен быть снова поставлен и другим. Каждым философом, вернее, каждым мыслящим и потому философствующим человеком вопрос этот должен решаться на собственный страх и счет, не от разума, не от логики только, а из всего существа. Даже в случае несамостоятельного его решения чужая мысль должна пройти чрез святая святых каждого человека и таким образом сделаться кровным достоянием усвоившего ее лица. Таково свойство всех мировых вопросов, которые составляют вместе с тем и основные проблемы метафизики, и таково, между прочим, свойство всех вопросов, мучащих Ивана Карамазова. Мы лично думаем, что проблема теодицеи, как она поставлена Иваном, неразрешима с точки зрения эвдемонистического понимания прогресса, видящего в последнем увеличение счастия наибольшего числа людей. Проблема эта разрешима или устранима только путем метафизического и религиозного синтеза[6].
Но мы не коснулись еще одного из самых мучительных сомнений, тревожащих сердце Ивана, мирового вопроса, ответ на который составляет веру и надежду наших дней; мы разумеем проблему всемирно-исторического развития человечества, или, что то же, проблему демократии и социализма. Нетрудно нам, детям XIX века, понять сущность этой проблемы. XIX век в умах многих разрушил или, по крайней мере, расшатал старые верования и старое представление об этой, земной, жизни как приготовлении к будущей, небесной. Он выдвинул воззрение, по которому наша жизнь действительно является приготовлением к будущей, но не небесной, а земной жизни. Место религии временно заняла теория прогресса, или, по старому контовскому выражению, религия человечества. Вычислялось и научно доказывалось, что будущему человечеству суждено царство свободного и светлого развития, при котором будут воплощены в жизнь радостные принципы свободы, равенства и братства. Все тяжелое и мертвящее нашей теперешней жизни, все формы эксплоатации и порабощения человека человеком погибнут естественной смертью, и миру явится новый, свободный, научно владеющий природой человек, человекобог, по выражению Достоевского.
Независимо от того, молится или не молится новым богам душа, необходимо заметить, что в основе нового понимания жизни, невзирая на научное его облачение и даже иногда действительно научную постановку отдельных вопросов, в него входящих, лежит все-таки вера, которую для краткости можно охарактеризовать как веру в человекобога, заменившую прежнюю веру в Богочеловека. Да не подумают, что я говорю это в упрек новому миросозерцанию. Нет, но я вообще думаю, что на дне всякого миросозерцания, настолько широкого и действенного, что оно непосредственно переходит в религию (хотя бы и атеистическую), находится вера; в основе всякого религиозного мировоззрения лежит нечто, что недоказуемо и стоит даже выше доказательства.
Верь тому, что сердце скажет,Нет залогов от небес{9}.Итак, для того, чтобы жить упованием светлого и прекрасного будущего человечества и работать ради этой отдаленной перспективы, нужно верить в человечество; верить в то, что человек действительно способен быть человекобогом, что человечество в целом действительно может подняться до небывалой еще высоты, а не выродиться в нравственное убожество, даже достигнув животного счастия. В это нужно верить и в это можно не верить. Следовательно, здесь есть проблема в том смысле, что здесь имеется возможность различного понимания, здесь возможны сомнения, короче, здесь мы имеем тоже мировой вопрос, т. е. вопрос, окончательно неразрешимый, но тем не менее необходимо ставящийся каждым сознательным существом. И этот вопрос поставлен, а это сомнение выражено в «легенде о великом инквизиторе».
«Легенда о великом инквизиторе»{10} есть один из самых драгоценных перлов, созданных русской литературой. В этом причудливо гениальном создании соединено величие евангельского образа с вполне современным содержанием, выражены тревожные искания наших дней, подобно тому как величественный рассказ книги Иова, переложенный на язык понятий нового времени, уже послужил однажды рамкой для одного из самых великих созданий европейской литературы, дивного пролога к «Фаусту» в небе. «Легенда о великом инквизиторе» представляет эпизодическую вставку в романе: хотя она и является важнейшим документом для характеристики души Ивана, но она может быть выделена и рассматриваться как самостоятельное произведение. Легенда представляет собой «безбрежную фантазию», философскую поэму молодого студента, в свою жизнь не написавшего двух стихов. Это, если позволите смелое сравнение, религиозная картина Васнецова{11}, сознательно пренебрегающая реализмом материи ради реализма идеи. Она сводит вторично Христа на землю, в самый разгар религиозных насилий и инквизиции, в самой фанатизированной и темной стране – в Испании. Чудными чертами описано появление Христа: «Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают Его. Это могло бы быть – прибавляет Иван – одним из лучших мест поэмы, т. е., почему именно узнают Его. Народ непобедимой силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди них с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответной любовью». Это чисто русская манера художественного трактования образа Христа, и она сближает таких во всех отношениях различных и далеких по духу писателей, как Тургенев и Достоевский. Вспомните, не та же ли манера рисовать пленительный образ Человеколюбца в одном из самых прекрасных «стихотворений в прозе» Тургенева «Христос».
Христос совершает чудеса, воскрешает мертвых. Его видит и узнает при этом великий инквизитор – официальный служитель Его учения, и велит Его арестовать. Толпа расступается, и Христа уводят в темницу. А ночью, севильскою душною ночью, приходит к Христу в тюрьму инквизитор, 90-летний старец, и здесь происходит полный философского величия и священного мистицизма разговор. Впрочем, говорит все время великий инквизитор; Христос говорит молча, хотя вы все время слышите эту молчаливую ответную речь, речь любви и всепрощения. Не ищите исторической верности в речах инквизитора. Вы скоро убеждаетесь, что в фантастическом образе средневекового инквизитора вы узнаете скорбную и мятущуюся душу Ивана[7]; сын XVI века оказывается способным вместить самые тягостные сомнения наших дней, полновластный деспот с безудержной отвагой, с карамазовской дерзостью ставит проблему демократии и социализма. Инквизитор исповедует свою веру или, точнее, свое неверие в человечество, которое не может жить, по его мнению, своим умом и своею совестью. Он упрекает Христа в том, что Он, исходя из идеального понимании человечества и его задач, взвалил ему на плечи непосильную тяжесть. Евангельский рассказ об искушении Христа в пустыне и трех соблазнах, которые представлял ему диавол, служит ему символом всей исторической проблемы. «В этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человечества и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле». «Обрати сии камни в хлебы, и за Тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы Твои. Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо, какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами?» Но людям не под силу это. После тяжелых испытаний люди «поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики». Так рисуется инквизитору экономическая проблема социализма, свободной демократической организации производства, проблема, предвечно поставленная «страшным и злым духом» в вещих его искушениях. «Приняв „хлебы“, Ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую, как единоличного существа, так и целого человечества вместе, это: „перед кем преклониться?“ Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться». Инквизитор упрекает Христа в том, что он отвергнул и второе предложение диавола, свергнуться со скалы, сделать чудо. «Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес». Распятый Христос не захотел сойти со креста. «Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высока, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками». «Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько мук». Зноем дышит речь инквизитора. Каким детским лепетом кажутся по сравнению с нею речи на эту и подобную тему какого-нибудь ныне модного и прославленного «Доктора Штокман»{12} и под.
Инквизитор третий раз упрекает Христа, что Он не захотел взять у великого духа власти, царства земного, которое он предлагал ему, отвергнул меч, надеясь только на слово свободного убеждения. Мы исправили подвиг Твой, – говорит инквизитор, – взяли меч на помощь кресту, насилие на помощь свободному убеждению, «мы не с Тобой, а с ним». Немногие избранники взяли на себя управление человеческим родом, основав его на сладком обмане. «И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев, и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла».
Итак, на вопрос, способно ли человечество выйти из теперешнего, униженного состояния, вместить в себя начало новой, свободной, автономной нравственной жизни, исполнить задачу, указуемую ему в будущем, инквизитор отвечает злобным и страстным нет. Достоевский дает как будто намек, в каком направлении следует искать выхода из отчаяния воззрений инквизитора, он дает его в речах молчаливого собеседника – Христа. С каким неподражаемым искусством художник заставляет чувствовать присутствие этого молчаливого собеседника. «И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами твоими? – раздражается вдруг инквизитор в самом разгаре своей богохульственной речи, – рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя… То, что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих». Вы чувствуете, как не дает покоя, лишает уверенности этот безмолвный любящий взор Спасителя. И каким дивным аккордом кончается легенда: «Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что Пленник его ему ответит. Ему тяжело Его молчание. Он видел, как Узник все время слушал его, проникновенно и тихо смотря ему в глаза, и видимо не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы Тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но Он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста». Вот и весь ответ. Инквизитор выпускает Пленника, которого только недавно хотел сжечь. Хотя старик остается при прежних идеях, но «поцелуй горит на его сердце».
Здесь, говорю, дается как бы намек на возможное разрешение ядовитых вопросов, которое, может быть, и состоит в снятии их с постановки, а снять их может не логика, их поставившая, а действенная сила любви, поцелуй, горящий на сердце инквизитора. Это та мысль, которая так торжественно выражена в дивных стихах Влад, Соловьева.
Смерть и время царят на земле,Ты владыками их не зови,Все кружась исчезает во мгле,Неподвижно лишь солнце любви{13}.Инквизитор не напрасно хотел сжечь Христа, ибо его идеи являются прямым отрицанием идей христианства, не потому, что он говорит бргохульственные речи, но по самому своему существу. Основная идея христианства состоит в этической равноценности всех людей, идея, формулированная как равенство всех перед Богом. Речь идет не о механическом уравнении прав и обязанностей, не о мнимом равенстве людей, которые по своим естественным данным необходимо различаются и неравны между собою, но о признании в каждом человеке, в каждом существе полноправной нравственной личности, имеющей известные права и, следовательно, налагающей известные обязанности. Никакая личность – повторилась позднее эта же идея в этике Канта – никогда не должна быть средством, она есть сама себе цель. Идея этического равенства легла в основу нашей европейской культуры, – античная жизнь эту идею отрицала; она была основана на противопоставлении морали господ и морали рабов. Христианская идея этической равноценности и нравственной автономии требует для своего осуществления в жизни людей устранения внешних препятствий, т. е. таких человеческих установлений, которые этому равенству противоречат; она требует поэтому устранения таких форм жизни, в которых человек является человеку средством, а не целью, форм эксплоатации человека человеком. В этом смысле новейшая европейская культура есть культура христианская, и основные постулаты этики христианства сливаются с основными постулатами учений современной демократии, экономической и политической, до полного отожествления. Вот почему великий инквизитор, отрицая демократию и свободу во имя порабощения личности, является «с ним, а не с Тобою», является, по горделивому выражению Ницше, антихристом. Не потому, чтобы он сомневался в осуществимости тех или иных форм политического или социального устройства – можно сомневаться и тем не менее считать это нравственным идеалом, стремление к которому нравственно обязательно, – но потому, что он отрицает основной завет Христа о равном достоинстве всех людей как нравственных личностей и о любви к этим людям как носителям одного и того же божественного начала. «Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!» – говорит Алеша, и Иван это вполне подтверждает. Достоевский хочет указать на несостоятельность атеистического (или натуралистического) учения о равенстве, на его противоестественность, в смысле противоречия его грубым, животным инстинктам человека. Люди равны в Боге, но не равны в природе, и это естественное неравенство побеждает этическую идею их равенства там, где эта идея лишена религиозной санкции. Идея равенства людей есть нравственная аксиома, нравственный постулат, формулирующийся в великой заповеди любви; равенство людей в этом смысле есть супранатуральный, метафизический принцип, находящий свое осуществление в истории, но именно эта история свидетельствует о постоянном поругании этой идеи, об упорной, хронической в этом смысле греховности людей, оказывающих насилие друг над другом[8]. Это насилие и возводит в идеал великий инквизитор, чуждый христианской любви, которую хочет зажечь в его сердце поцелуй Христа. Инквизитор хочет поделить людей на две расы, на две различных породы, между которыми открывается незасыпаемая пропасть; таким образом установляются две нравственности – мораль господ и мораль рабов, по известному ницшевскому выражению.
Мы не раз уже, говоря об инквизиторе, упоминали имя Ницше. Это не случайно, ибо мы видим поразительную близость исходных идей антихристианства инквизитора и автора Заратустры. Основной мотив социальной философии Ницше есть та же идея, что и у великого инквизитора – отрицание этического равенства людей, признание различной морали рабов и господ. «Только относительно равных себе существуют обязанности, относительно существ низшего порядка можно действовать по усмотрению». Это высшая порода людей и является целью истории. С точки зрения этой идеи Ницше приходит ко всем патологическим уродливостям своего учения – отрицанию любви, сострадания, возвеличению войны, полному отрицанию демократических идеалов и т. д. и т. д. Удивительна гениальная прозорливость Достоевского, прозревшего одну из самых характерных нравственных болезней нашего века. Образ «сверхчеловека» Упорно тревожил творческое воображение Достоевского; в двух своих величайших созданиях: «Преступлении и наказании» (Раскольников) и «Братьях Карамазовых», не говоря уже о второстепенных, возвращается он к этому образу.
Все проблемы, которые ставит Иван (и из которых мы коснулись лишь важнейших), как легко убедиться, находятся в органической связи между собою. Они касаются самых существенных сторон миросозерцания XIX века. Основная вера этого века – вера в бесконечный прогресс человечества; в этой вере сходятся все теории прогресса, как бы различны они ни были. Прогресс этот является сам себе целью, нет какого-либо внешнего императива, который бы эту цель оправдывал или превращал в средство для иной высшей цели. Смысл этого прогресса – возможно большее счастие возможно большего числа людей. Основное правило морали XIX века – альтруистическое служение этому прогрессу. Самым ярким и решительным выражением этого мировоззрения является теория так называемого научного социализма или вообще социализма. Оговорюсь, что учение социализма теоретически является лишь частным случаем теории прогресса вообще; возможны и другие способы представлять себе будущее развитие человечества, но исторически это есть важнейшая, по крайней мере в наши дни, почти единственная из распространенных теорий прогресса. В этом смысле между теорией прогресса вообще и социализмом в частности можно поставить для настоящего времени знак равенства. Поэтому все сомнения Ивана, направленные против господствующего учения прогресса, направлены в то же время и против теории социализма, понимаемой не как экономическое только учение, а как общее мировоззрение, скажу шире, как религия. Иван выражает сомнение относительно трех основных верований этой религии: относительно обязательности нравственных норм, повелевающих жертвовать этому безличному прогрессу или благу других людей свое личное благо и интересы, затем относительно того, что можно назвать ценой прогресса, в котором счастие будущих поколений покупается на счет несчастия настоящих (чисто эвдемоническая версия теории прогресса), наконец, относительно будущего этого человечества, для которого приносятся все эти жертвы.