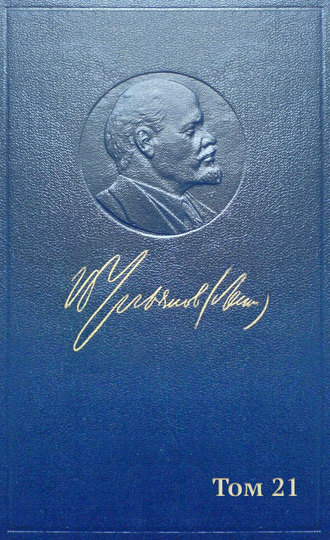 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 21. Декабрь 1911 – июль 1912
Или может быть кто-нибудь станет утверждать, что без оформленных решений возможна избирательная кампания?? Без оформленных решений возможно определение – десятками и сотнями тысяч избирателей в разных концах страны – и тактики, и платформы, и соглашений, и кандидатур??
Заговорив о «картах на столе», Мартов задел самое больное место ликвидаторов и нельзя преувеличить энергии, с которой надо предостеречь рабочих. Без оформленных решений, без всяких определенных ответов на практические вопросы, без участия хотя бы десятков или сотен передовиков в обсуждении каждой фразы, каждого слова важных решений рабочей массе преподносят… мысли и наброски не названных открыто «деятелей открытого движения», т. е. гг. Потресовых, Левицких, Чацких, Ежовых, Лариных.
Карты прячут, ибо малейшая попытка раскрыть их перед рабочими покажет им яснее ясного, что тут не о рабочей партии идет речь, не о рабочей политике, а о проповеди либеральных публицистов, по-либеральному пекущихся о рабочих, ликвидирующих старое и бессильных дать взамен хоть что-либо новое.
Опасность велика. За фразами об «открытом»… завтрашнем дне оставляют рабочих не только без открытого, но без всякого решения неотложнейших практических вопросов сегодняшней избирательной кампании, сегодняшней партийной жизни.
Пусть сознательные рабочие вдумаются в это опасное положение.
Написано 12 или 13 (25 или 26) марта 1912 г.
Впервые напечатано 21 января 1935 г. в газете «Правда» № 21
Печатается по рукописи
По поводу ухода депутата Т. О. Белоусова из с.-д. думской фракции
С большим удивлением прочли мы в № 7 «Живого Дела» перепечатку из «Речи» бранчливого заявления г. Белоусова{83}. Что «Речь» приняла это заявление нового перебежчика, в этом нет ничего удивительного. «Речи» естественно печатать выкрики бывшего социал-демократа, будто «чувством мести» продиктована была оценка с.-д. думской фракцией его бегства. Но с какой стати перепечатывает это «Живое Дело»? И не странно ли видеть в том же «Живом Деле» статью «К уходу депутата Белоусова», в которой ведутся кисло-сладкие речи о том, что «нас не должны смущать те случаи дезертирства, какие имели место»?
С одной стороны, «Живое Дело» «не считает себя вправе останавливаться на оценке шага Белоусова, пока не оглашены мотивы, им руководившие». С другой стороны, оно все же останавливается… на полдороге, говоря с ужимками о «подобном дезертирстве»!
К чему эта игра? Не пора ли печати исполнить свой долг открытого обсуждения фактов, имеющих политическое значение?
Думская с.-д. фракция единогласно высказалась, что г. Белоусову следовало бы сложить немедленно свои депутатские полномочия, ибо он прошел в Думу эсдековскими голосами и четыре с половиной года был в думской с.-д. фракции.
Г-н Белоусов печатает в «Речи» ответ, обходя эту суть дела совершенно. Но общественное мнение сознательных рабочих не должно позволить обходить этот вопрос молчанием. Если г. Белоусов желает отмалчиваться, то мы не вправе молчать. К чему же тогда рабочая пресса, если не для обсуждения фактов, важных для думского представительства рабочего класса?
Допустимо ли это с точки зрения обязанностей всякого демократа, если депутат, прошедший в качестве социал-демократа и четыре с половиной года пробывший в с.-д. думской фракции, уходит из фракции за несколько месяцев до выборов, не уходя из Думы? Вот вопрос, имеющий общее значение. Ни один демократ, сознающий свои обязанности перед избирателями – не в смысле обязанностей «ходателя» за местные интересы, а в смысле обязанностей политического деятеля, который перед всем народом выступал на выборах с определенным знаменем, – ни один демократ не станет отрицать, что вопрос этот принципиальный и крайне важный.
Пусть все рабочие, читающие рабочую прессу и интересующиеся вопросом о представительстве рабочих в Государственной думе, отнесутся с величайшим вниманием к уходу г. Белоусова, обдумают и обсудят этот вопрос. Нельзя молчать. Недостойно сознательного рабочего молчать в таких случаях. Надо уметь отстаивать свое право, право всякого избирателя на то, чтобы выбранные ими депутаты оставались верны своему знамени, чтобы они не смели дезертировать безнаказанно.
Права или нет думская фракция, что депутат, пробывший в ней четыре с половиной года и прошедший в Государственную думу с.-д. голосами, обязан, уходя теперь из фракции, уйти из Думы? Да! С.-д. фракция вполне права! Если мы не на словах только, а на деле стоим за единство, сплоченность, цельность, принципиальную выдержанность рабочего представительства, мы должны заявить свое мнение, мы должны, все и каждый, поодиночке и совместно, обратиться и в «Звезду», и в думскую фракцию с письмами (которые надо сообщать и местной прессе), что поступок г. Белоусова мы решительно и бесповоротно осуждаем, что не только всякий сторонник рабочего класса, но и всякий демократ должен выразить осуждение подобным поступкам. Подумайте только, какое же это будет «народное представительство», если депутаты, выбранные под определенным знаменем, пробывшие под ним девять десятых думской сессии, накануне выборов будут заявлять: ухожу из фракции, но остаюсь депутатом, желаю оставаться «народным» представителем!
Позвольте, господин перебежчик! Какой народ теперь вы представляете? Не тот, который вас выбирал, как эсдека! Не тот, который вас видел в течение 9/10 думской сессии в рядах с.-д. думской фракции! Вы не представитель народа, а обманщик народа, ибо за оставшееся до выборов время нельзя, физически невозможно этому народу (даже если бы этот народ пользовался полной политической свободой) изучить теперь на деле, на основании ваших поступков, кто вы такой, чем вы стали, куда вы покатились, к кому или к чему вас потянуло. Вы должны уйти из Думы, или все и каждый вправе будут третировать вас, как политического авантюриста и обманщика!
Бывают уходы и уходы. Бывают перемены взглядов столь явные, определенные, открытые, мотивированные известными всем фактами, что разногласий при оценке некоторых уходов не возникает, предосудительного, бесчестного в некоторых уходах не бывает. Но, ведь, не случайно же теперь и только теперь, только в данном случае думская фракция выступила с печатным протестом! С.-д. фракция говорит прямо, что г. Белоусов «выразил пожелание, чтобы не предавать гласности факта его ухода из фракции». Г-н Белоусов бранится в своем ответе, перепечатанном «Живым Делом», но не опровергает факта. Мы спрашиваем: что должен думать каждый рабочий о человеке, который, уходя из фракции, выражает пожелание скрыть свой уход? Если это не обман, то что же называется на свете обманом?
С.-д. фракция говорит прямо, что «она совершенно не может выяснить себе границ дальнейшей эволюции своего бывшего сочлена». Пусть подумает читатель над этими многознаменательными словами! Не про всех ушедших, а только про одного данного ушедшего говорит такие серьезные вещи думская с.-д. фракция. Это есть вотум (решение принято по голосованию) полного недоверия. Больше того. Это есть предупреждение всех избирателей, всего народа, что такому-то депутату доверять совершенно невозможно. С.-д. думская фракция единогласно предупреждает об этом всех и каждого. Всякий сознательный рабочий должен ответить теперь, что он это предупреждение получил, что он его понял, что он его разделяет, что он не будет молча смотреть на установление в России, в среде людей, причисляющих себя к демократии, таких парламентских нравов (вернее: такой парламентской безнравственности), когда депутаты ловят мандаты, как добычу, для «свободных» проделок с этой добычей. Так бывало, так бывает во всех буржуазных парламентах, и везде рабочие, понявшие свою историческую роль, борются с этим, борьбой воспитывают себе своих, рабочих, депутатов, не ловцов мандата, не дельцов парламентских афер, а доверенных рабочего класса.
И пусть рабочие не дадут обмануть себя софизмами. Таким софизмом является рассуждение «Живого Дела»: «мы не считаем себя вправе останавливаться на оценке шага Т. О. Белоусова, пока не оглашены мотивы, им руководившие».
Во-первых, в заявлении думской с.-д. фракции мы читаем: «уход свой г. Белоусов мотивировал тем, что фракция еще два года тому назад стала для него совершенно чуждою средою». Разве это не есть оглашение мотивов? Разве это не ясные русские слова? Если «Живое Дело» не верит заявлению фракции, пусть оно скажет это прямо, а не виляет, не вертится, не говорит, что оно «не вправе останавливаться», когда фракция уже остановилась, уже огласила мотивы или мотив, сочтенный фракцией главнейшим.
Во-вторых, в ответе г. Белоусова, напечатанном кадетской «Речью» и ликвидаторским «Живым Делом», мы читаем: «Сообщу, что фракция в своем заявлении ровно ничего (??!) не сказала о действительных мотивах моего с нею разрыва. Я знаю, что независящие обстоятельства не позволяют фракции огласить мои разногласия с нею, изложенные как в устном, так и письменном объяснении».
Посмотрите-ка, что это такое выходит. Фракция официально оглашает мотивировку г. Белоусова. Г-н Белоусов бранится («инсинуации, наветы» и т. п.), но не опровергает этой мотивировки. Он заявляет, что независящие обстоятельства не позволяют фракции «огласить» еще нечто. (Если действительно обстоятельства не позволяют огласить, то к чему же вы, милостивый государь, оглашаете намек на то, чего нельзя огласить? Не приближается ли ваш прием к инсинуации?) А «Живое Дело», перепечатывая вопиющую фальшь г. Белоусова, которая бьет в лицо, тут же говорит от себя: «мы не вправе останавливаться, пока не будут оглашены мотивы…», оглашения которых «не позволяют» независящие обстоятельства!! Другими словами: для оценки ухода г. Белоусова «Живое Дело» будет ждать оглашения того, чего огласить (по заявлению самого г. Белоусова) нельзя.
Неужели не ясно, что «Живое Дело» вместо того, чтобы разоблачить перепечатываемую им фальшь г. Белоусова, прикрывает эту фальшь?
Нам остается добавить немного. Ссылаться на неоглашение того, чего огласить нельзя, значит разоблачать самого себя. А оценить то, что уже оглашено, что уже известно, необходимо и обязательно для всякого, кто дорожит думским представительством рабочего класса. Г-н Белоусов уверяет: «мой выход из фракции ни на йоту не изменил направления моей политической и общественной деятельности». Это – пустые слова, повторяемые всеми ренегатами. Слова эти противоречат заявлению фракции. Мы верим с.-д. фракции, а не перебежчику. О «направлении» г. Белоусова нам, как и большинству марксистов, известно лишь одно: это было направление резко ликвидаторское. Г-н Белоусов дошел в ликвидаторстве до того, что фракция окончательно «ликвидировала» его связь с социал-демократией. Тем лучше для нее, для рабочих, для рабочего дела.
А ухода из Думы г. Белоусова должны требовать не только все рабочие, но и все демократы.
«Звезда» № 17 (53), 13 марта 1912 г. Подпись: Т.
Печатается по тексту газеты «Звезда»
Голод
Снова голод – как по-прежнему, в старой России, до 1905 года. Неурожаи бывают везде, но только в России они ведут к отчаянным бедствиям, к голодовкам миллионов крестьян. А теперешнее бедствие, как вынуждены признать даже сторонники правительства и помещиков, превышает по размерам голод 1891 года.
Население в 30 миллионов человек пострадало в сильнейшей степени. Крестьяне за бесценок распродают наделы, скот и все, что только можно продавать. Продают девушек – возвращаются худшие времена рабства. Народное бедствие показывает сразу настоящую суть всего нашего якобы «цивилизованного» общественного строя: в других формах, в другой оболочке, при иной «культуре» этот строй есть старое рабство, рабство миллионов трудящихся ради богатства, роскоши, тунеядства «верхних» десяти тысяч. Каторжная работа, как всегда у рабов, и полная беззаботность богачей насчет судьбы рабов: прежде прямо морили голодом рабов, прямо брали женщин в гаремы барина, прямо подвергали рабов истязаниям. Теперь крестьян ограбили – посредством всех ухищрений, завоеваний и прогрессов цивилизации – ограбили так, что они пухнут от голода, едят лебеду, едят комья грязи вместо хлеба, болеют цингой и умирают в мучениях. А русские помещики, с Николаем II во главе, и русские капиталисты загребают деньги миллионами: владельцы увеселительных заведений в столицах говорят, что давно они так бойко не торговали. Давно не было такой наглой, разнузданной выставки роскоши, как теперь в больших городах.
Почему в России и только в России сохранились еще эти средневековые голодовки рядом с новейшим прогрессом цивилизации? Потому, что новый вампир – капитал – надвигается на русских крестьян при таких условиях, когда крестьяне связаны по рукам и ногам крепостниками-помещиками, крепостническим, помещичьим, царским самодержавием. Ограбленные помещиками, задавленные произволом чиновников, опутанные сетями полицейских запретов, придирок и насилий, связанные новейшей охраной стражников, попов, земских начальников, крестьяне так же беззащитны против стихийных бедствий и против капитала, как дикари Африки. Только в диких странах и можно встретить теперь такое повальное вымирание от голода, как в России XX века.
Но голод в современной России, после стольких хвастливых речей царского правительства о благе нового землеустройства, о прогрессе хуторского хозяйства и т. д., не пройдет без того, чтобы многому научить крестьян. Голод погубит миллионы жизней, но он погубит также остатки дикой, варварской, рабьей веры в царя, мешающей понять необходимость и неизбежность революционной борьбы против царской монархии, против помещиков. Только в уничтожении помещичьего землевладения могут найти крестьяне выход. Только в свержении царской монархии, этого оплота помещиков, лежит выход к сколько-нибудь человеческой жизни, к избавлению от голодовок, от беспросветной нищеты.
Разъяснять это – долг каждого сознательного рабочего, долг каждого сознательного крестьянина. Это – наша главная задача в связи с голодом. Организовать, где можно, сборы от рабочих в пользу голодающих крестьян и пересылать эти деньги через с.-д. депутатов – это, разумеется, тоже одно из необходимых дел.
«Рабочая Газета» № 8, 17 (30) марта 1912 г.
Печатается по тексту «Рабочей Газеты»
Крестьянство и выборы в IV Думу
Правительство начало уже «готовиться» к выборам в IV Думу. Стараются земские начальники, подгоняемые циркулярами от губернаторов и министра, усердствуют становые и черносотенцы, из кожи лезут «батюшки», которым велено хлопотать изо всех сил за «правые» партии. Крестьянам также пора подумать о выборах.
Для крестьян выборы имеют особенно важное значение, а положение крестьян на выборах очень трудное. У крестьянства всего слабее политическая организованность – и по сравнению с рабочими и по сравнению с либеральной, кадетской партией. А без политической организации крестьяне, будучи из всех слоев населения наиболее раздробленными по условиям своей жизни, совершенно не в состоянии дать отпор помещикам и чиновникам, которые и давят теперь крестьян, надругаются над ними так, как никогда прежде. Группа крестьянских депутатов в IV Думе, действительно преданных крестьянскому делу, сознательных и способных отстаивать по всем вопросам интересы крестьянства, политически организованных и неуклонно работающих над расширением и упрочением связей с крестьянами на местах, такая группа могла бы принести громадную пользу делу сплочения крестьянских масс в их борьбе за волю и за жизнь.
Возможно ли образование такой группы в IV Думе? В III Думе была группа трудовиков в 14 человек, которая отстаивала интересы крестьянской демократии, – к сожалению, слишком часто становясь при этом в зависимость от либералов, кадетов, которые водят крестьян за нос, обманывая призраком «мира» крестьян с помещиками и с помещичьей царской монархией. Кроме того известно, что даже «правые» крестьяне в III Думе по вопросу о земле выступают более демократически, чем кадеты. Земельный проект 43-х третьедумских крестьянских депутатов свидетельствует об этом неопровержимо, а недавнее «выступление» Пуришкевича против правых депутатов крестьян показывает, что черносотенцы имеют основание быть вообще недовольными «правыми» крестьянами депутатами.
Итак, по настроению своему крестьянство – получившее за время III Думы жестокие уроки и от новой земельной политики, от «землерасстройства», и от величайшего бедствия: голода – крестьянство вполне способно дать демократических представителей в IV Думу. Вся загвоздка в избирательном законе! Составленный помещиками в пользу помещиков и утвержденный помещичьим царем, закон этот предоставляет выбор депутата в Думу от крестьян не крестьянским выборщикам, а помещикам. Кого хотят помещики, того они и выберут в Думу от крестьян из числа крестьянских выборщиков! Ясно, что помещики всегда будут выбирать черносотенных крестьян.
Значит, чтобы провести своих депутатов в Думу, действительно надежных и стойких защитников крестьянских интересов, у крестьян есть только одно средство. Это средство – сделать так, как сделали рабочие, т. е. не пропускать в выборщики ни одного человека, кроме партийных, сознательных, вполне преданных крестьянству и надежных людей.
Рабочая социал-демократическая партия постановила на своей конференции: рабочие уже на собрании уполномоченных (выбирающих выборщиков) должны постановлять, кто именно должен быть выбран от рабочих в Думу. Все остальные выборщики должны отказываться, под угрозой бойкота и суда за измену.
Пусть крестьяне делают то же самое. Немедленно надо начать подготовку к выборам, разъясняя крестьянам их положение, сплачивая всюду, где возможно, по деревням хотя бы самые небольшие группки сознательных крестьян для руководства выборами. На собрании своих уполномоченных, прежде чем выбирать выборщиков, крестьяне должны постановлять, кто именно от крестьян должен пройти в Думу, требуя от всех остальных крестьянских выборщиков, под угрозой бойкота и суда за измену, чтобы они не принимали помещичьих предложений, чтобы они обязательно отказывались в пользу крестьянского кандидата. Все сознательные рабочие, все социал-демократы, все истинные демократы должны прийти на помощь крестьянству в деле выборов в IV Думу. Пусть тяжелые уроки голода и грабежа крестьянских земель не пропадут даром. Пусть усилится и окрепнет группа преданных крестьянству, действительно демократических крестьянских депутатов в IV Думе.
«Рабочая Газета» № 8, 17 (30) марта 1912 г.
Печатается по тексту «Рабочей Газеты»
Аноним из «Vorwärts'a» и положение дел в РСДРП{84}
Написано в марте 1912 г.
Напечатано в 1912 г. в Париже отдельной брошюрой «Der Anonymus aus dem «Vorwärts» und die Sachlage in der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands». Подпись: Die Redaktion des Zentralorgans der sozialdem. Arbeiterpartei Rußland s «Sozial-demokrat»
На русском языке впервые напечатано в 1924 г. в Собрании сочинений Н. Ленина (В. Ульянова), том XII, часть I
Печатается по тексту брошюры Перевод с немецкого
Предисловие
В «Vorwärts'e»{85} от 26 марта появились официальное сообщение о конференции РСДРП и анонимная статья, где автор, следуя примеру резолюции заграничных групп русских социал-демократов{86}, осыпает конференцию бранью. Конференция эта явилась завершением четырехлетней борьбы РСДРП с ликвидаторами и состоялась, несмотря на все интриги ликвидаторов, которые хотели во что бы то ни стало помешать восстановлению партии. Конференция объявила ликвидаторов вне партии. Естественно, что ликвидаторы и все к ним примыкающие нападают теперь на конференцию.
Так как «Vorwärts» отказывается дать место нашему ответу на лживую, клеветническую статью анонима и продолжает свою кампанию в пользу ликвидаторов, то мы выпускаем этот ответ для информации немецких товарищей в виде отдельной брошюры. Она посвящена, главным образом, краткому изложению значения, хода и исхода борьбы с ликвидаторами.
Редакция ЦО РСДРП «Социал-Демократ»P.S. Наша брошюра была уже сдана в печать, когда появился № 16 плехановского «Дневника Социал-Демократа»{87} (апрель 1912 г.). Этот № дает лучшее доказательство того, что «Vorwärts» был обманут анонимом и с своей стороны вводил в заблуждение немецких рабочих.
Плеханов, определенно заявляя, что он по-прежнему не является сторонником состоявшейся в январе 1912 г. конференции, утверждает прямо, что Бунд созывает не конференцию существующих партийных организаций, а «учредительную», т. е. такую, которая должна основать новую партию; что организаторы этой конференции кладут в основу «типично-анархический принцип»; что они приняли «ликвидаторскую резолюцию»; что эта новая конференция «созывается ликвидаторами».
* * *Приходится только удивляться, с какой наивностью некоторые немецкие товарищи приняли всерьез все страшные слова вроде: «узурпация», «государственный переворот» и т. д., которые пускают в ход заграничные группки русской социал-демократии, набрасываясь на конференцию русских организаций РСДРП. Впрочем не следует забывать поговорки, что всякий осужденный вправе в продолжение 24 часов ругать своих судей.
В статье «Vorwärts'a» от 26 марта, озаглавленной: «Из жизни русской партии», приведено официальное сообщение конференции, которое говорит об исключении ликвидаторов из партии. Дело – ясно вполне: русские организации РСДРП стали на ту точку зрения, что совместная работа с ликвидаторами невозможна. Можно, конечно, в этом вопросе держаться другого взгляда, но тогда следовало бы несколько более подробно коснуться мотивов такого решения и всей истории четырехлетней борьбы с ликвидаторством! А между тем автор анонимной статьи в «Vorwärts'e» не говорит ни слова по существу об этом основном вопросе. Конечно, это свидетельствует об очень слабом уважении к читателям, если существо дела обходят молчанием и только отводят душу в мелодраматических излияниях. Как же беспомощен наш аноним, когда факту разрыва между партией и ликвидаторством он ничего не может противопоставить, кроме ругани!
Достаточно из напыщенной статьи анонима взять наудачу несколько курьезов. Он говорит, что в конференции не приняли участия «течения» или «группы»: «Вперед», «Правда», «Голос Социал-Демократа» и т. д. Что можно было бы сказать о немецком социал-демократе, который стал бы сокрушаться, что на партийном съезде не были представлены «группа» или «течение Фридберга» или «Sozialistische Monatshefte»{88}? И мы в своей партии также придерживаемся правила, что в конференции принимают участие организации, действующие в России, а не всякие заграничные «течения» или «группы». Если эти «группы» расходятся с русскими организациями, то уже в одном этом и заключается их самое сильное осуждение, их смертный приговор, которого они с полным правом заслужили. История русской эмиграции – как и эмиграции всех других стран – изобилует случаями, когда такие «течения» или «группы», оторвавшись от работы социал-демократических рабочих в России, умирали естественной смертью.
Не смешны ли крики нашего автора, что меньшевики-партийцы (т. е. антиликвидаторы), участвовавшие на конференции, были дезавуированы самим Плехановым? Киевская организация могла бы, конечно, дезавуировать заграничных «плехановцев» (т. е. сторонников Плеханова); но никакой отдельный литератор за границей не мог бы с своей стороны «дезавуировать» Киевскую организацию. Организации Петербургская, Московская, Московская окружная, Казанская, Саратовская, Тифлисская, Бакинская, Николаевская, Киевская, Екатеринославская, Виленская и Двинская «дезавуировали» все заграничные группки, которые помогали ликвидаторам или заигрывали с ними. Тут крики и брань «дезавуированных» вряд ли могут что-нибудь изменить.
Далее, не курьезно ли, когда автор заявляет прямо, что «национальные» социал-демократические организации в России (Польская, Латышская{89}, Бунд) и Закавказский областной комитет представляют «старейшие, самые сильные организации нашей русской партии, образующие, собственно, спинной хребет движения»? Проблематичность существования Закавказского областного комитета известна каждому и доказана характером его представительства на конференции 1908 г. Поляки и латыши в первые 9 лет существования РСДРП (1898–1907 гг.) вели совершенно обособленную от нее жизнь; – эта обособленность фактически продолжала существовать и в 1907–1911 гг. Бунд в 1903 г. вышел из партии и до 1906 (точнее 1907 г.) стоял вне ее. Объединения его с партией на местах и до настоящего времени не произошло, как официально установлено конференцией РСДРП 1908 года{90}. Внутри Латышской организации и Бунда брали верх то ликвидаторские, то антиликвидаторские течения. Что касается поляков, то в 1903 г. они были на стороне меньшевиков, в 1905 г. – на стороне большевиков, в 1912 г. они сделали неудачную попытку добиться «примирения» с ликвидаторами.









