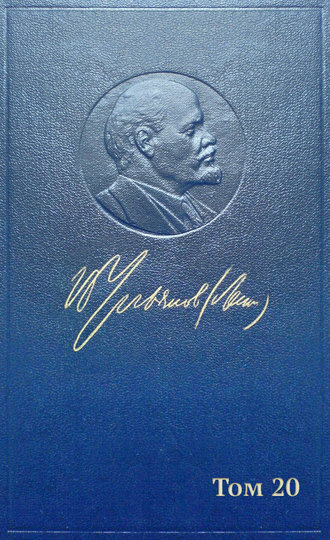 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 20. Ноябрь 1910 ~ ноябрь 1911
Политическая биография Столыпина есть точное отражение и выражение условий жизни царской монархии. Столыпин не мог поступить иначе, чем он поступал, при том положении, в котором оказалась при революции монархия. Монархия не могла поступать иначе, когда с полной определенностью выяснилось, и выяснилось на опыте, и до Думы, в 1905 г., и при Думе, в 1906 г., что громадная, подавляющая масса населения уже сознала непримиримость своих интересов с сохранением класса помещиков и стремится к уничтожению этого класса. Нет ничего более поверхностного и более фальшивого, как уверения кадетских писателей, что нападки на монархию были у нас проявлением «интеллигентского» революционаризма. Напротив, объективные условия были таковы, что борьба крестьян с помещичьим землевладением неизбежно ставила вопрос о жизни или смерти нашей помещичьей монархии. Царизму пришлось вести борьбу не на живот, а на смерть, пришлось искать иных средств защиты, кроме совершенно Обессилевшей бюрократии и ослабленной военными поражениями и внутренним распадом армии. Единственное, что оставалось царской монархии в таком положении, была организация черносотенных элементов населения и устройство погромов. Высокоморальное негодование, с которым говорят о погромах наши либералы, не может не производить на всякого революционера впечатления чего-то донельзя жалкого и трусливого, – особенно, когда это высокоморальное осуждение погромов соединяется с полным допущением мысли о переговорах и соглашениях с погромщиками. Монархия не могла не защищаться от революции, а полуазиатская, крепостническая, русская монархия Романовых не могла защищаться иными, как самыми грязными, отвратительными, подло-жестокими средствами: не высокоморальные осуждения, а всестороннее и беззаветное содействие революции, организация революции для свержения такой монархии есть единственно достойный, единственно разумный для всякого социалиста и для всякого демократа прием борьбы с погромами.
Погромщик Столыпин подготовил себя к министерской должности именно так, как только и могли готовиться царские губернаторы: истязанием крестьян, устройством погромов, умением прикрывать эту азиатскую «практику» – лоском и фразой, позой и жестами, подделанными под «европейские».
И вожди нашей либеральной буржуазии, высокоморально осуждающие погромы, вступали в переговоры с погромщиками, признавая за ними не только право на существование, но и гегемонию в деле устройства новой России и управления ею! Умерщвление Столыпина послужило поводом к целому ряду интересных разоблачений и признаний, касающихся этого вопроса. Вот, например, письма Витте и Гучкова о переговорах первого с «общественными деятелями» (читай: с вождями умеренно-либеральной монархической буржуазии) о составлении министерства после 17 октября 1905 г. В переговорах с Витте – эти переговоры, видимо, были продолжительны, ибо Гучков пишет о «томительных днях длящихся переговоров», – участвовали Шипов, Трубецкой, Урусов, М. Стахович, т. е. будущие деятели и кадетской, и «мирнообновленческой», и октябристской партий. Разошлись, оказывается, из-за Дурново, которого «либералы» не допускали в роли министра внутренних дел, а Витте ультимативно отстаивал. При этом Урусов, кадетское светило в I Думе, явился «горячим защитником кандидатуры Дурново». Когда князь Оболенский выдвинул кандидатуру Столыпина, «кое-кто подтвердил, кое-кто отозвался незнанием». «Определенно помню, – пишет Гучков, – отрицательного отзыва, о котором пишет гр. Витте, никто не делал».
Теперь кадетская печать, желающая подчеркнуть свой «демократизм» (не шутите!) особенно, может быть, ввиду выборов по 1 – ой курии в Петербурге, где кадет боролся с октябристом, пытается кольнуть Гучкова по поводу тогдашних переговоров. «Как часто гг. октябристы под предводительством Гучкова, – пишет «Речь» от 28 сентября, – в угоду начальству оказывались коллегами единомышленников г. Дурново! Как часто, обращенные взорами к начальству, они оказывались спиной к общественному мнению!» Передовица «Русских Ведомостей» от того же числа повторяет на разные лады тот же самый кадетский упрек октябристам.
Позвольте, однако, гг. кадеты: какое право вы-то имеете упрекать октябристов, если в тех же самых переговорах участвовали и ваши люди, даже защищавшие Дурново? Разве кроме Урусова все кадеты не были тогда, в ноябре 1905 года, в положении людей, «обращенных взорами к начальству» и «спиной к общественному мнению»? Милые бранятся – только тешатся; не принципиальная борьба, а конкуренция одинаково беспринципных партий – вот что приходится сказать по поводу теперешних попреков кадетов октябристам в связи с «переговорами» конца 1905 года. Препирательство подобного рода служит только для затушевывания действительно важного, исторически бесспорного факта, что все оттенки либеральной буржуазии, от октябристов вплоть до кадетов, были «обращены взорами к начальству» и поворачивались «спиной» к демократии с тех пор, как наша революция приняла действительно народный характер, т. е. стала демократической по составу ее активных участников. Столыпинский период русской контрреволюции тем и характеризуется, что либеральная буржуазия отворачивалась от демократии, что Столыпин мог поэтому обращаться за содействием, за сочувствием, за советом то к одному, то к другому представителю этой буржуазии. Не будь такого положения вещей, Столыпин не мог бы осуществлять гегемонию Совета объединенного дворянства над буржуазией, настроенной контрреволюционно, при содействии, сочувствии, активной или пассивной поддержке этой буржуазии.
Эта сторона дела заслуживает особенного внимания, ибо именно ее упускает из виду – или намеренно игнорирует – наша либеральная печать и такие органы либеральной рабочей политики, как «Дело Жизни». Столыпин – не только представитель диктатуры крепостников-помещиков; ограничиться подобной характеристикой значит ровно ничего не понять в своеобразии и в значении «столыпинского периода». Столыпин – министр такой эпохи, когда во всей либеральной буржуазии, вплоть до кадетской, господствовало контрреволюционное настроение, когда крепостники могли опираться и опирались на такое настроение, могли обращаться и обращались с «предложениями» (руки и сердца) к вождям этой буржуазии, могли видеть даже в наиболее «левых» из таких вождей «оппозицию его величества», могли ссылаться и ссылались на поворот идейных вождей либерализма в их сторону, в сторону реакции, в сторону борьбы с демократией и оплевания демократии. Столыпин – министр такой эпохи, когда крепостники-помещики изо всех сил, самым ускоренным темпом повели по отношению к крестьянскому аграрному быту буржуазную политику, распростившись со всеми романтическими иллюзиями и надеждами на «патриархальность» мужичка, ища себе союзников из новых, буржуазных элементов России вообще и деревенской России в частности. Столыпин пытался в старые мехи влить новое вино, старое самодержавие переделать в буржуазную монархию, и крах столыпинской политики есть крах царизма на этом последнем, последнем мыслимом для царизма пути. Помещичья монархия Александра III пыталась опираться на «патриархальную» деревню и на «патриархальность» вообще в русской жизни; революция разбила вконец такую политику. Помещичья монархия Николая II после революции пыталась опираться на контрреволюционное настроение буржуазии и на буржуазную аграрную политику, проводимую теми же помещиками; крах этих попыток, несомненный теперь даже для кадетов, даже для октябристов, есть крах последней возможной для царизма политики.
Диктатура крепостника-помещика не была направлена при Столыпине против всего народа, включая сюда и все «третье сословие», всю буржуазию. Нет, эта диктатура была поставлена в лучшие для нее условия, когда октябристская буржуазия служила ей не за страх, а за совесть; когда помещики и буржуазия имели представительное учреждение, в котором было обеспечено большинство их блоку, и была оформлена возможность переговоров и сговоров с короной; когда гг. Струве и прочие веховцы с истерическим надрывом обливали помоями революцию и создавали идеологию, радовавшую сердце Антония Волынского; когда г. Милюков провозглашал кадетскую оппозицию «оппозицией его величества» (его величества крепостника-последыша). И тем не менее, несмотря на эти более благоприятные для гг. Романовых условия, несмотря на эти самые благоприятные условия, какие только мыслимы с точки зрения соотношения общественных сил в капиталистической России XX века, несмотря на это, политика Столыпина потерпела крах; Столыпин умерщвлен был тогда, когда стучится в дверь новый могильщик – вернее, собирающий новые силы могильщик – царского самодержавия.
* * *Отношения Столыпина к вождям буржуазии, и обратно, характеризуются особенно рельефно эпохой I Думы. «Время с мая по июль 1906 года, – пишет «Речь», – было решающим в карьере Столыпина». В чем же был центр тяжести этого времени?
«Центр тяжести того времени, – заявляет официальный орган кадетской партии, – заключался, конечно, не в думских выступлениях».
Не правда ли, вот поистине ценное признание! Сколько копий было сломано с кадетами в то время из-за вопроса о том, можно ли видеть «центр тяжести» той эпохи в «думских выступлениях»! Сколько сердитой брани, сколько высокомерных доктринерских поучений было тогда в кадетской печати по адресу социал-демократов, утверждавших весной и летом 1906 года, что не в думских выступлениях заключается центр тяжести того времени! Сколько попреков всему русскому «обществу» бросала тогда «Речь» и «Дума» за то, что общество мечтает о «конвенте» и недостаточно восторгается кадетскими победами на «парламентской» перводумской арене! Прошло пять лет, приходится дать общую оценку перводумской эпохе, и кадеты с такой легкостью, точно они меняют перчатки, провозглашают: «центр тяжести того времени заключался, конечно, не в думских выступлениях». Конечно, нет, господа! В чем же был центр тяжести?
«…За кулисами, – читаем в «Речи», – шла острая борьба между представителями двух течений. Одно рекомендовало искать соглашения с народным представительством, не отступая и перед составлением «кадетского министерства». Другое требовало резкого шага, роспуска Государственной думы и изменения избирательного закона. Такую программу проводил Совет объединенного дворянства, опиравшийся на могущественные влияния… Столыпин некоторое время колебался. Есть указания, что он два раза через Крыжановского предлагал Муромцеву обсудить возможность кадетского министерства, при участии Столыпина в качестве министра внутренних дел. Но в то же время Столыпин, несомненно, находился в сношениях с Советом объединенного дворянства».
Так пишут историю гг. образованные, ученые, начитанные вожди либералов! Выходит, что «центр тяжести» был не в выступлениях, а в борьбе двух течений внутри черносотенной царской камарильи! Политику «натиска» сразу и без оттяжек вел Совет объединенного дворянства – т. е. не лица, не Николай Романов, не «одно течение» в «сферах», а определенный класс. Своих соперников справа кадеты видят ясно, трезво. Но то, что было слева от кадетов, исчезло из их поля зрения. Историю делали «сферы», Совет объединенного дворянства и кадеты – простонародье, конечно, в делании истории не участвовало! Определенному классу (дворянству) противостояла надклассовая партия «народной свободы», а сферы (т. е. царь-батюшка) колебались.
Ну можно ли себе представить более корыстную классовую слепоту? большее искажение истории и забвение азбучных истин исторической науки? более жалкую путаницу, смешение класса, партии и личностей?
Хуже всякого слепого тот, кто не хочет видеть демократии и ее сил.
Центр тяжести перводумской эпохи заключался, конечно, не в думских выступлениях. Он заключался во внедумской борьбе классов, борьбе помещиков-крепостников и их монархии с народной массой, рабочими и крестьянами. Революционное движение масс именно в это время снова стало подниматься: и стачки вообще, и политические стачки, и крестьянские волнения, и военные бунты грозно поднялись весной и летом 1906 г. Вот почему, господа кадетские историки, «сферы» колебались: борьба течений внутри царской шайки шла из-за того, можно ли сразу совершить государственный переворот при данной силе революции или надо еще выждать, еще поводить за нос буржуазию.
Помещиков (Романова, Столыпина и Ко) первая Дума вполне убедила в том, что мира у них с крестьянской массой и рабочими быть не может. И это их убеждение соответствовало объективной действительности. Оставалось решить второстепенный вопрос: когда и как, сразу или постепенно изменить избирательный закон. Буржуазия колебалась, но все ее поведение – даже кадетской буржуазии – показывало, что она во сто раз больше боится революции, чем реакции. Поэтому помещики и соблаговоляли привлекать вождей буржуазии (Муромцева, Гейдена, Гучкова и Ко) к совещаниям, нельзя ли вместе составить министерство. И буржуазия вся, вплоть до кадетов, шла советоваться с царем, с погромщиками, с вождями черной сотни о средствах борьбы с революцией, – но буржуазия с конца 1905 года никогда ни одной своей партии не послала на совещание с вождями революции о том, как свергнуть самодержавие и монархию.
Вот основной урок «столыпинского» периода русской истории. Царизм привлекал буржуазию на совещания, когда революция еще казалась силой – и постепенно отбрасывал прочь, пинком солдатского сапога, всех вождей буржуазии, сначала Муромцева и Милюкова, потом Гейдена и Львова, наконец, Гучкова, когда революция переставала оказывать давление снизу. Различие между Милюковыми, Львовыми и Гучковыми совершенно несущественно – вопрос очереди, в которой эти вожди буржуазии подставляли свои щеки под… «поцелуи» Романова – Пуришкевича – Столыпина и получали таковые… «поцелуи».
Столыпин сошел со сцены как раз тогда, когда черносотенная монархия взяла все, что можно было в ее пользу взять от контрреволюционных настроений всей русской буржуазии. Теперь эта буржуазия, отвергнутая, оплеванная, загадившая сама себя отречением от демократии, от борьбы масс, от революции, стоит в растерянности и недоумении, видя симптомы нарастания новой революции. Столыпин дал русскому народу хороший урок: идти к свободе через свержение царской монархии, под руководством пролетариата, или – идти в рабство к Пуришкевичам, Марковым, Толмачевым, под идейным и политическим руководством Милюковых и Гучковых.
«Социал-Демократ» № 24, 18 (31) октября 1911 г.
Печатается по тексту газеты «Социал-Демократ»
О новой фракции примиренцев или добродетельных
«Информационный Бюллетень» Заграничной технической комиссии{134} (№ 1 от 11 августа 1911 г.) и вышедший почти одновременно, тоже в Париже, листок «Ко всем членам РСДРП», подписанный «Группа большевиков-партийцев», представляют из себя одинаковые по содержанию выступления против «официального большевизма» или, по другому выражению, против «большевиков-ленинцев». Выступления эти очень сердитые, – в них больше сердитых восклицаний и декламации, чем содержания, – но тем не менее на них следует остановиться, ибо затрагиваются здесь важнейшие вопросы нашей партии. И мне тем естественнее будет взяться за оценку новой фракции, что я, во-1-х, писал как раз по тем же самым вопросам и как раз от имени всех большевиков ровно 11/2 года тому назад (см. «Дискуссионный Листок» № 2)[34], а во-2-х, я вполне сознаю свою ответственность за «официальный большевизм». Что касается до выражения «ленинцы», то оно просто есть неудачное покушение на колкость – дескать, только о сторонниках одного лица идет здесь речь! – на деле все прекрасно знают, что вопрос отнюдь не идет о разделяющих мои лично взгляды на те или иные стороны большевизма.
Авторы листка, подписываясь «партийные большевики», называют себя еще «нефракционными большевиками», оговариваясь, что их «здесь» (т. е. в Париже) «довольно неудачно» называют примиренцами. На деле именно такое название, установившееся уже более чем 11/4 года тому назад и не только в Париже, не только за границей, но и в России, является единственно правильно передающим политическую сущность новой фракции, как убедится читатель из дальнейшего изложения.
Примиренчество есть сумма настроений, стремлений, взглядов, связанных неразрывно с самой сутью исторической задачи, поставленной перед РСДРП в эпоху контрреволюции 1908–1911 гг. Поэтому целый ряд с.-д. в этот период «впадал» в примиренчество, исходя из самых различных посылок. Последовательнее всех выразил примиренчество Троцкий, который едва ли не один пытался подвести теоретический фундамент под это направление. Фундамент это такой: фракции и фракционность были борьбой интеллигенции «за влияние на незрелый пролетариат». Пролетариат зреет, и фракционность сама собой гибнет. Не изменение в отношениях между классами, не эволюция коренных идей двух главных фракций лежит в основе процесса слияния фракций, а дело зависит от соблюдения или несоблюдения соглашений между всеми «интеллигентскими» фракциями. Троцкий упорно и проповедует – уже давно, колеблясь при этом то больше в сторону большевиков, то больше в сторону меньшевиков – такое соглашение (или компромисс) между всеми и всяческими фракциями.
Обратный взгляд (см. №№ 2 и 3 «Дискуссионного Листка»[35]) состоит в том, что фракции порождены отношением между классами в русской революции. Большевики и меньшевики только формулировали ответы на вопросы, поставленные перед пролетариатом объективной действительностью 1905–1907 годов. Поэтому лишь внутренняя эволюция этих фракций, «сильных» фракций, сильных глубиной своих корней, сильных соответствием их идей с известными сторонами объективной действительности, – исключительно внутренняя эволюция именно этих фракций способна обеспечить реальное слияние фракций, т. е. создание действительно вполне единой партии пролетарского, марксистского, социализма в России. Отсюда практический вывод: только сближение на работе этих двух сильных фракций и только в меру их очищения от несоциал-демократических течений ликвидаторства и отзовизма есть политика действительно партийная, действительно осуществляющая единство – путем нелегким, негладким, далеко не моментально, но реально, в отличие от тьмы шарлатанских посулов насчет легкого, гладкого, моментального слияния «всех» фракций.
Эти два взгляда наметились еще до пленума, когда я в беседах выдвинул лозунг: «сближение двух сильных фракций, а не хныканье о распущении фракций», – о чем поведал публике тотчас после пленума «Голос Социал-Демократа». Эти два взгляда я прямо, определенно и систематически изложил в мае 1910 года, т. е. 11/2 года тому назад и притом на «общепартийной» арене в «Дискуссионном Листке» (№ 2). Если «примиренцы», с которыми мы спорили на эти темы с ноября 1909 года, не собрались до сих пор ни разу ответить на эту статью, ни разу не попытались вообще разобрать этот вопрос сколько-нибудь систематически, изложить свои взгляды сколько-нибудь открыто и цельно, то вина в этом всецело ложится на них. Они называют свое фракционное выступление в листке от имени особой группы «гласным ответом»: этот гласный ответ людей, остававшихся безгласными больше года, не есть ответ на вопрос, как он давно поднят, как он давно обсужден, как он давно разрешен в двух принципиально различных направлениях, а есть самая безнадежная путаница, самое безбожное смешение двух непримиримых ответов. Нет ни единого положения, которое авторы листка не выставляли бы без того, чтобы тут же не побить его. Нет ни единого положения, о котором якобы большевики (на деле непоследовательные троцкисты) не дали бы перепева ошибок Троцкого.
В самом деле, взгляните на основные мысли листка.
Кто такие его авторы? Они говорят, что большевики, «не разделяющие организационных взглядов официального большевизма». Как будто бы «оппозиция» только по организационному вопросу, не правда ли? Читайте следующую фразу: «… Именно организационные вопросы, вопросы строительства и восстановления партии, выдвигаются на первый план теперь, как и 11/2 года тому назад». Это прямо неверно и это есть как раз та принципиальная ошибка Троцкого, которую я разоблачил 11/2 года тому назад. На пленуме организационный вопрос мог казаться первостепенным лишь потому и постольку, поскольку отказ всех течений от ликвидаторства принимался за реальность вследствие того, что и голосовцы, и впередовцы «подписали», «утешая» партию, резолюции против ликвидаторства и против отзовизма. Ошибка Троцкого в том и состояла, что он продолжал выдавать эту кажимость за реальность после того, как «Наша Заря» с февраля 1910 окончательно выкинула знамя ликвидаторства, а впередовцы в своей пресловутой N-ой школе – знамя защиты отзовизма. На пленуме принятие кажимости за реальность могло быть результатом самообмана. После пленума, с весны 1910 г., Троцкий обманывал рабочих самым беспринципным и бессовестным образом, уверяя, что препятствия объединению главным образом (если не только) организационные. Этот обман продолжают в 1911 г. примиренцы парижские, ибо говорить теперь, что организационные вопросы стоят на первом плане, есть насмешка над истиной. На деле на первом плане стоит теперь вопрос отнюдь не организационный, а вопрос о всей программе, всей тактике, всем характере партии, вернее о двух партиях, о социал-демократической рабочей партии и о столыпинской рабочей партии гг. Потресовых, Смирновых, Лариных, Левицких и Ко. Примиренцы парижские точно проспали 11/2 года после пленума, в течение которых вся борьба с ликвидаторами передвинулась и у нас, и у партийных меньшевиков с вопросов организационных на вопросы о бытии с.-д. – а не либеральной – рабочей партии. Спорить теперь, скажем, с господами из «Нашей Зари» об организационных вопросах, об отношении легальной и нелегальной организации, значило бы ломать комедию, ибо эти господа вполне могут признать такую «нелегальную» организацию, как «Голос», прислуживающий ликвидаторам! Давно уже сказано, что такую нелегальную организацию, которая бы служила монархическому либерализму, признают и практикуют наши кадеты. Примиренцы называют себя большевиками, чтобы 11/2 года спустя повторять разоблаченные большевиками (и притом с специальным заявлением, что это делается от имени всего большевизма!) ошибки Троцкого. Ну разве это не злоупотребление установившимися партийными кличками? Разве не обязаны мы после этого заявить всем и каждому, что примиренцы отнюдь не большевики, что они не имеют ничего общего с большевизмом, что они просто непоследовательные троцкисты?
Читайте несколько дальше: «Можно не согласиться с тем, как понимал официальный большевизм и большинство редакции ЦО задачу борьбы с ликвидаторством…». Неужели можно серьезно утверждать, что «задача борьбы с ликвидаторством» есть задача организационная? Примиренцы сами заявляют, что расходятся с большевиками не только по организационным вопросам! В чем же именно? Они молчат. Их «гласный ответ» продолжает быть ответом безгласных… или беззаботных?., людей. В течение 11/2 лет они не собрались ни единого разу поправить «официальный большевизм» или изложить свое понимание задачи борьбы с ликвидаторством! А борьбу эту официальный большевизм ведет ровно три года, с августа 1908 года. Сопоставляя эти общеизвестные даты, мы невольно ищем объяснения странной «безгласности» примиренцев, и эти поиски невольно приводят на память Троцкого и Ионова, уверявших, что они тоже против ликвидаторов, но иначе понимают задачу борьбы с ними. Смешно ведь это, товарищи: через три года после начала борьбы заявлять, что вы иначе ее понимаете. Такое инако-понимание как две капли воды похоже на полное непонимание!
Пойдем дальше. Гвоздь теперешнего партийного кризиса, несомненно, сводится к вопросу: полное отделение нашей партии, РСДРП, от ликвидаторов (голосовцев в том числе) или продолжение политики соглашения с ними. Едва ли найдется хоть один с.-д., сколько-нибудь знакомый с делом, который стал бы отрицать, что в этом вопросе суть всего теперешнего партийного положения. Какой же ответ дают на него примиренцы?
«Нам говорят, – пишут они в листке, – что этим (поддержкой совещания) мы нарушаем партийные формы и производим раскол. Мы не думаем этого (sic![36]). Но если бы это было так, мы бы этого не боялись». (Следует указание на срыв пленума Заграничным бюро ЦК, на то, что «на ЦК ведут азартную игру», что «партийные формы стали наполняться фракционным содержанием» и т. д.)









