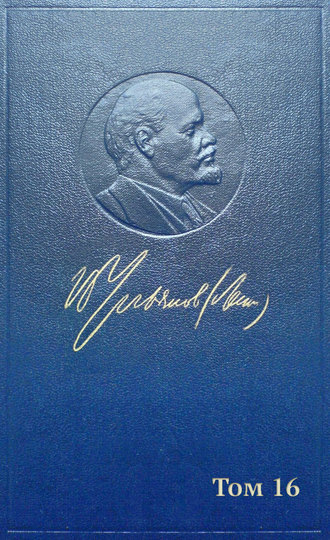 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 ~ март 1908
Тесные связи с молодыми солдатами дают возможность союзам молодежи вести среди солдат широкую антимилитаристскую пропаганду. Делается это, главным образом, при помощи антимилитаристской литературы, которую союзы молодежи издают и распространяют в громадном количестве, особенно во Франции, в Бельгии, а также в Швейцарии, Швеции и пр. Литература эта самого разнообразного содержания: открытки с картинками антимилитаристского содержания, солдатские антимилитаристские песенники (многие из этих песен очень распространены среди солдат), «солдатский катехизис» (во Франции он был распространен более, чем в 100 000 экземпляров), всякого рода брошюры, воззвания, листки; еженедельные, двухнедельные, ежемесячные газеты и журналы для солдат, некоторые из них с иллюстрациями. «Казарма», «Рекрут», «Молодой Солдат», «Пьюпью» (ласкательное прозвище молодого рекрута), «Вперед» расходятся очень широко. Например, в Бельгии газеты «Рекрут» и «Казарма» расходятся каждая в 60 000 экземпляров. Особенно много журналов выходит ко времени рекрутского набора. Специальные номера солдатских газет рассылаются по адресам всех новобранцев. Антимилитаристская литература доставляется солдатам в казармы, передается им на улице, ее солдаты находят в кофейнях, трактирах, всюду, где они только бывают.
Особенно много внимания уделяется новобранцам. Им устраивают торжественные проводы. Во время рекрутского набора по городу ходят процессии. Так, например, в Австрии рекруты, одетые в траур, под звуки похоронного марша проходят через весь город. Впереди них едет разукрашенная красным повозка. На стенах всюду расклеиваются красные афиши, на которых крупными буквами напечатано: «Вы не станете стрелять в народ!». В честь рекрутов устраиваются вечеринки, на которых говорятся горячие антимилитаристские речи. Одним словом, делается все, чтобы пробудить сознание рекрута, чтобы застраховать его от зловредного влияния тех идей и чувств, которые будут ему всеми правдами и неправдами внушать в казарме.
И работа социалистической молодежи не пропадает даром. В Бельгии среди солдат существует уже около 15 солдатских союзов, примыкающих в большинстве к социал-демократической рабочей партии и тесно связанных между собой. Есть полки, в которых две трети солдат организованы. Во Франции антимилитаристское настроение стало массовым. Во время стачек в Дюнкирхене, Крезо, Лонгви, Монсо-ле-Мин солдаты, которых двинули против стачечников, заявили о своей солидарности с ними…
С каждым днем в рядах армии насчитывается все больше социал-демократов, войско становится все ненадежнее. Когда буржуазия должна будет стать лицом к лицу с организованным рабочим классом – на чьей стороне будет войско? Социалистическая рабочая молодежь со всей энергией и пылом, свойственным молодежи, работает над тем, чтобы оно было на стороне народа.
«Вперед» № 16, 8 октября 1907 г.
Печатается по тексту газеты «Вперед»
Революция и контрреволюция
В октябре 1905 года Россия переживала наибольший революционный подъем. Пролетариат отбросил с своей дороги булыгинскую Думу и вовлек широкие народные массы в прямую борьбу с самодержавием. В октябре 1907 года мы переживаем наибольший, по-видимому, упадок открытой массовой борьбы. Но период упадка, начавшийся после декабрьского поражения 1905 г., принес с собой не только расцвет конституционных иллюзий, но и полный крах их. Третья Дума, созываемая после разгона двух Дум и государственного переворота 3-го июня, кладет явный конец периоду веры в мирное сожительство самодержавия с народным представительством и открывает новую эпоху в развитии революции.
В такой момент, как переживаемый нами, сравнение революции и контрреволюции в России, периода революционного натиска (1905 г.) и периода контрреволюционной игры в конституцию (1906 и 1907 гг.) напрашивается само собой. Всякое определение политической линии на ближайшее время неизбежно включает в себя такое сравнение. Противопоставление «ошибок революции» или «революционных иллюзий» «положительной конституционной работе» – основной мотив современной политической литературы. Об этом кричат кадеты на предвыборных собраниях. Об этом поет, вопиет и глаголет либеральная пресса. Тут и г. Струве, страстно и злобно вымещающий на революционерах свою досаду по поводу окончательного провала надежды на «компромисс». Тут и Милюков, которого, несмотря на все его жеманство и иезуитизм, ход событий заставил прийти к ясному, точному и – это главное – правдивому: «враги слева». Тут и публицисты в духе «Товарища», Кускова, Смирнов, Плеханов, Горн, Иорданский, Череванин и пр., порицающие за легкомыслие октябрьско-декабрьскую борьбу и проповедующие, более или менее открыто, «демократическую» коалицию с кадетами. Настоящие кадетские элементы этого мутного потока выражают контрреволюционные интересы буржуазии и безграничное холопство интеллигентского мещанства. У тех же элементов, которые еще не совсем дошли до Струве, преобладающей чертой является непонимание связи между революцией и контрреволюцией в России, неспособность взглянуть на все пережитое нами, как на одно целое общественное движение, развивающееся по своей внутренней логике. Период революционного натиска показал в действии классовый состав населения России и отношение разных классов к старому самодержавию. События научили теперь всех и каждого, даже совершенно чуждых марксизму людей, вести летосчисление революции с 9 января 1905 г., т. е. с первого сознательно-политического движения масс, принадлежащих к одному определенному классу. Когда социал-демократия из анализа экономической действительности России выводила руководящую роль, гегемонию пролетариата в нашей революции, – это казалось книжным увлечением теоретиков. Революция подтвердила нашу теорию, ибо она единственная действительно революционная теория. Пролетариат на деле шел все время во главе революции. Социал-демократия на деле оказалась идейным передовым отрядом пролетариата. Борьба масс развивалась, под руководством пролетариата, необыкновенно быстро – быстрее, чем ожидали многие революционеры. На протяжении одного года она поднялась до самых решительных, какие только знает история, форм революционного натиска, до массовой стачки и вооруженного восстания. Организация пролетарских масс с поразительной быстротой росла в самом ходе борьбы. Вслед за пролетариатом стали организовываться другие слои населения, составившие боевые кадры революционного народа. Организовывалась полупролетарская масса всякого рода служащих, затем крестьянская демократия, профессиональная интеллигенция и т. д. Период пролетарских побед был периодом невиданного в России, гигантского даже с европейской точки зрения, роста массовой организованности вообще. Пролетариат добился в это время целого ряда улучшений в условиях своего труда. Крестьянская масса добилась «сокращения» помещичьего произвола, понижения арендных и продажных цен на землю. Вся Россия добилась значительной свободы собраний, слова и союзов, добилась всенародного отречения самодержавия от старых порядков и признания конституции.
Все, что завоевано доныне освободительным движением в России, завоевано всецело и исключительно революционной борьбой масс с пролетариатом во главе их.
Поворот в развитии борьбы начинается с поражения декабрьского восстания. Контрреволюция шаг за шагом переходит в наступление по мере ослабления массовой борьбы. В эпоху первой Думы эта борьба выразилась еще очень и очень внушительно в усилении крестьянского движения, в широком разгроме гнезд крепостников-помещиков, в целом ряде солдатских восстаний. И реакция наступала тогда медленно, не решаясь сразу произвести государственный переворот. Лишь после подавления Свеаборгского и Кронштадтского восстаний июля 1906 года она делается смелее, водворяет военно-полевой режим, начинает по частям отнимать выборное право (сенатские разъяснения{55}), наконец, окончательно окружает полицейской осадой вторую Думу и ниспровергает всю пресловутую конституцию. Всякие самочинные, свободные организации масс сменились в это время «легальной борьбой» в рамках полицейской конституции, истолковываемой Дубасовыми и Столыпиными. Главенство социал-демократии сменилось главенством кадетов, которые господствовали в обеих Думах. Период упадка движения масс был периодом высшего расцвета партии кадетов. Она эксплуатировала этот упадок, выступая в качестве «борца» за конституцию. Она поддерживала в народе всеми силами веру в эту конституцию и проповедовала необходимость ограничиться именно «парламентской» борьбой.
Крах «кадетской конституции» есть крах кадетской тактики и кадетской гегемонии в освободительной борьбе. Корыстно-классовый характер всех рассуждений нашего либерализма на тему о «революционных иллюзиях» и об «ошибках революции» выступает с очевидностью при сравнении обоих периодов революции. Пролетарская массовая борьба дала завоевания всему народу. Либеральное руководство движением не дало ничего кроме поражений. Революционный натиск пролетариата неуклонно поднимал сознание масс и организованность их, ставя перед ними все более высокие задачи, развивая их самостоятельное участие в политической жизни, уча их борьбе. Гегемония либералов в период обеих Дум принижала сознание масс, разлагала их революционную организованность, притупляла сознание демократических задач.
Либеральные вожди I и II Думы великолепно продемонстрировали перед народом коленопреклоненную, легальную «борьбу», которая привела к тому, что самодержавные крепостники росчерком пера смели конституционный парадиз либеральных болтунов и надсмеялись над тонкой дипломатией посетителей министерских передних. За либералами нет ни одного завоевания за все время русской революции, ни одного успеха, ни одного сколько-нибудь демократического дела, организующего народные силы в борьбе за свободу.
До октября 1905 года либералы держали иногда сочувственный нейтралитет по отношению к революционной борьбе масс, но и тогда уже они начали выступать против нее, посылая депутацию с подлыми речами к царю, поддерживая булыгинскую Думу не из-за недомыслия, а из-за прямой вражды к революции. После октября 1905 года либералы только и делали, что позорно предавали дело народной свободы.
В ноябре 1905 года они подсылали г-на Струве интимно побеседовать с г. Витте. Весной 1906 года они подрывали революционный бойкот и своим отказом открыто перед Европой высказаться против займа помогали правительству добыть миллиарды на завоевание России. Летом 1906 года они торговались с заднего крыльца с Треповым о министерских портфелях и боролись с «левыми», т. е. с революцией, в I Думе. В январе 1907 года они опять забегали к полицейским властям (визит Милюкова у Столыпина). Весной 1907 года они поддерживали правительство во II Думе. Революция замечательно быстро разоблачила либерализм и показала на деле его контрреволюционную природу.
В этом отношении период конституционных упований прошел далеко не бесполезно для народа. Опыт первой и второй Думы не только научил понимать все беспредельное убожество той роли, которую играет либерализм в нашей революции. Нет, этот опыт и на деле ликвидировал попытку руководить демократическим движением со стороны партии, которую только политические младенцы или выжившие из ума старцы могут считать действительно конституционно-«демократической».
В 1905 и в начале 1906 годов классовый состав буржуазной демократии в России еще не для всех был ясен. Упования насчет того, что можно соединить самодержавие с действительным представительством сколько-нибудь широких масс народа, были не только у темных и забитых обитателей разных захолустий. Этим упованиям не чужды были и правящие сферы самодержавия. Почему избирательный закон и в булыгинскую и в виттевскую Думу давал значительное представительство крестьянству? Потому, что держалась еще вера в монархическое настроение деревни. «Серячок выручит», это восклицание правительственной газеты весной 1906 года выражало надежду правительства на консервативность крестьянской массы{56}. В те времена кадеты не только не сознавали антагонизма между демократизмом крестьян и буржуазным либерализмом, но опасались даже отсталости крестьян и желали одного: чтобы Дума помогла превратить консервативного или равнодушного крестьянина в либерала. Весной 1906 года г. Струве выражал смелое пожелание, когда писал: «крестьянин в Думе будет кадетом». Летом 1907 года тот же г. Струве поднял знамя борьбы с трудовыми или левыми партиями, как с главной помехой осуществлению сделки между буржуазным либерализмом и самодержавием. На протяжении полутора года лозунг борьбы за политическое просвещение крестьян сменился у либералов лозунгом борьбы против «чересчур» политически просвещенного и требовательного крестьянина!
Эта смена лозунгов выражает как нельзя более ясно полное банкротство либерализма в русской революции. Классовый антагонизм массы демократического сельского населения и крепостников-помещиков оказался неизмеримо глубже, чем воображали трусливые и тупоумные кадеты. Поэтому и провалилась так быстро и так бесповоротно их попытка взять на себя гегемонию в борьбе за демократию. Поэтому и потерпела крушение вся их «линия» – помирить мелкобуржуазную демократическую массу народа с октябристскими и черносотенными помещиками. Великое, хотя и отрицательное, завоевание контрреволюционного периода двух Дум состоит в этом банкротстве предательских «борцов» за «народную свободу». Классовая борьба, идущая внизу, выкинула этих героев министерской передней за борт, превратила их из претендентов на руководство в простых лакеев октябризма, слегка подкрашенных конституционным лаком.
Кто не видит до сих пор этого банкротства либералов, испытавших на деле свою пригодность в качестве борцов за демократию или, по крайней мере, борцов в рядах демократии, тот ровно ничего не понял в политической истории двух Дум. Бессмысленное повторение заученной формулы о поддержке буржуазной демократии превращается, у таких людей, в контрреволюционное хныканье. Не жалеть о крахе конституционных иллюзий должны социал-демократы. Они должны сказать, как говорил Маркс про контрреволюцию в Германии: народ выиграл то, что потерял свои иллюзии{57}. Буржуазная демократия в России выиграла то, что потеряла негодных вождей и дряблых союзников. Тем лучше для политического развития этой демократии.
Партии пролетариата остается позаботиться о том, чтобы богатые политические уроки нашей революции и контрреволюции были глубже продуманы и тверже усвоены широкими массами. Период натиска на самодержавие развернул силы пролетариата и научил его основам революционной тактики, показал условия успеха непосредственной борьбы масс, которая одна только в состоянии завоевать сколько-нибудь серьезные улучшения. Долгий период подготовки сил пролетариата, воспитания и организации его предшествовал тем выступлениям сотен тысяч рабочих, которые нанесли смертельные удары старому самодержавию в России. Долгая, невидная работа руководства всеми проявлениями классовой борьбы пролетариата, работа созидания прочной, выдержанной партии предшествовала взрыву действительно массовой борьбы и обеспечила условия превращения этого взрыва в революцию. И теперь пролетариату, как передовому борцу народа, надо укрепить свою организацию, соскрести с себя всякую плесень интеллигентского оппортунизма, сплотить свои силы для такой же выдержанной и упорной работы. Задачи, которые поставлены перед русской революцией ходом истории и объективным положением широких масс, не разрешены. Элементы нового, общенародного политического кризиса не только не устранены, а, напротив, еще углубились и расширились. Наступление этого кризиса поставит опять пролетариат во главе общенародного движения. К этой роли должна быть готова рабочая с.-д. партия. И на почве, удобренной событиями 1905 и последующих годов, посев даст вдесятеро лучший урожай. Если за партией в несколько тысяч сознательных передовиков рабочего класса поднялся в конце 1905 года миллион пролетариев, то теперь наша партия, насчитывающая десятки тысяч искушенных в революции и теснее в самой борьбе связавших себя с массой рабочих социал-демократов, поведет за собой десяток миллионов и сломит врага.
И социалистические и демократические задачи рабочего движения в России определились несравненно резче, выступили на первый план настоятельнее под влиянием революционных событий. Борьба с буржуазией поднимается на высшую ступень. Капиталисты сплачиваются в всероссийские союзы, теснее соединяются с правительством, чаще пускают в ход самые крайние средства экономической борьбы вплоть до массовых локаутов, чтобы «обуздать» пролетариат. Но преследования страшны только отживающим классам, а пролетариат увеличивается в числе и сплоченности тем быстрее, чем быстрее успехи господ капиталистов. За непобедимость пролетариата ручается экономическое развитие и России и всего мира. Буржуазия впервые начала в нашей революции складываться в класс, в единую и сознательную политическую силу. Тем успешнее пойдет и организация рабочих по всей России в единый класс. Тем глубже будет пропасть между миром капитала и миром труда, тем яснее будет социалистическое сознание рабочих. Социалистическая агитация среди пролетариата станет определеннее, обогатившись опытами революции. Политическая организация буржуазии – лучший толчок к окончательной формировке социалистической рабочей партии.
Задачи этой партии в борьбе за демократию могут вызывать споры отныне только среди «сочувствующих» интеллигентов, готовящихся уйти к либералам. Для массы рабочих эти задачи стали осязательно ясны в огне революции. Что основой и единственной основой буржуазной демократии, как исторической силы в России, является крестьянская масса, это пролетариат знает по опыту. Роль вождя этой массы в борьбе против крепостников-помещиков и царского самодержавия уже выполнена пролетариатом в общенациональном масштабе, и никакие силы не совлекут теперь рабочей партии с верного пути. Роль либеральной партии кадетов, под флагом демократизма направлявших крестьянство под крылышко октябризма, сыграна, и социал-демократия вопреки одиночкам-нытикам будет продолжать свое дело выяснения массам этого банкротства либералов, выяснения того, что буржуазная демократия не может выполнить своего дела, не очистившись окончательно от союза с лакеями октябризма.
Никто не сможет сказать теперь, как сложатся дальнейшие судьбы буржуазной демократии в России. Возможно, что банкротство кадетов поведет к образованию крестьянской демократической партии, действительной массовой партии, а не той организации террористов, которою остались социалисты-революционеры. Возможно также, что объективные трудности политического сплочения мелкой буржуазии не дадут образоваться такой партии и оставят надолго крестьянскую демократию в современном состоянии рыхлой, неоформленной, киселеобразной трудовической массы. И в том и в другом случае наша линия одна: ковать демократические силы неумолимой критикой всяких колебаний, непримиримой борьбой против присоединения демократии к доказавшему свою контрреволюционность либерализму.
Чем дальше заходит реакция, тем больше неистовствует черносотенный помещик, чем больше подчиняет он себе самодержавие – тем медленнее будет идти экономическое развитие России и освобождение ее от остатков крепостничества. А это значит: тем сильнее и шире будет развиваться сознательный и боевой демократизм в массах городской и сельской мелкой буржуазии. Тем сильнее будет массовое сопротивление голодовкам, насилиям и надругательству, на которые осуждают крестьянство октябристы. Социал-демократия позаботится о том, чтобы ко времени неизбежного подъема демократической борьбы шайка либеральных карьеристов, называемая партией кадетов, не могла еще раз разделить ряды демократии и посеять смуту в ее рядах. Либо с народом, либо против народа, – эту альтернативу давно уже ставила социал-демократия всяким претендентам на роль «демократических» вождей в революции. До сих пор не все с.-д. умели последовательно выдержать эту линию; некоторые поддавались и сами посулам либералов, некоторые закрывали глаза на шашни этих либералов с контрреволюцией. Теперь мы просвещены уже опытом обеих первых Дум.
Революция научила пролетариат массовой борьбе. Революция доказала, что он может вести за собой крестьянские массы в борьбе за демократию. Революция сплотила теснее чисто пролетарскую партию, отбрасывая от нее мелкобуржуазные элементы. Контрреволюция отучила мелкобуржуазную демократию от попыток искать себе вождей и союзников в либерализме, который пуще огня боится массовой борьбы. Опираясь на эти уроки событий, мы смело можем сказать по адресу правительства черносотенных помещиков: продолжайте в том же духе, гг. Столыпины! Мы будем собирать плоды того, что вы сеете!
«Пролетарий» № 17, 20 октября 1907 г.
Печатается по тексту газеты «Пролетарий»
Как пишут историю «социалисты-революционеры»
В номере пятом центрального органа социалистов-революционеров, «Знамени Труда»{58}, находим передовицу о Штутгартском съезде, написанную с обычным для с.-р. потоком фраз и неумеренного хвастовства. Перепечатывается телеграмма, в которой ЦК партии с.-р. сообщал Европе, что «революционная борьба повелевает ему остаться на посту». Заявляется полное удовлетворение того же ЦК по поводу «обычной энергии» представителя социалистов-революционеров в Бюро. «Социалистический интернационал своей резолюцией одобрил точку зрения на профессиональное движение, которую мы всегда проводили», – уверяет «Знамя Труда». В вопросе о законодательном введении минимума заработной платы конгресс, вопреки догматику Каутскому, «оказался на нашей стороне». За три года «мы, русские социалисты», «выросли в большую массовую партию. И это признал открыто и почтительно (!!!) Интернационал».
Одним словом, – тридцать тысяч курьеров были посланы из Европы для выражения почтительности социалистам-революционерам.
А злокачественные с.-д. вели в русской секции «маленькие интрижки», именно: боролись против равенства голосов для с.-д. и с.-р., требуемого социалистами-революционерами. Социал-демократы требовали 11 голосов себе, 6 социалистам-революционерам и 3 для профессиональных союзов. Бюро постановило: 10 для с.-д., 7 для с.-р. и 3 для профессиональных союзов. «Адлер и Бебель, голосовавшие против нашего требования, заявили при этом, что отнюдь не желают умалять значения ПСР, которую они признают важным фактором русского социализма и революции. Но они хотят быть справедливыми и констатировать приблизительное соотношение сил» («Знамя Труда»).
Неосторожны, ох, как неосторожны наши Хлестаковы! Ни о значении с.-р., ни о «важном факторе» в Бюро не было и не могло быть речи. Раз партия допущена на конгресс и в Бюро, оценки ее значения и ее важности Бюро и члены его не станут и касаться. Бюро может оценивать только силу партий для распределения числа голосов. Бебель и Адлер согласились с доводами нашего, с.-д., представителя в Бюро относительно того, что с.-д. и с.-р. не равны по силе. Согласившись с этими доводами, они, разумеется, отметили, что не принципы, не направления судят, не спор между с.-д. и с.-р. программой решают, а исключительно взвешивают силу для распределения голосов. Из такой само собою разумеющейся оговорки сделать признание социалистов-революционеров «важным фактором» значит поступать по-хлестаковски.
И тем более неосторожно это со стороны с.-р., что, передавая по памяти и передавая неверно смысл оговорки Бебеля и Адлера, они обходят молчанием доводы по существу дела. Об оговорках Бебеля рассказали с прикрасами, а о том, как мы по существу спорили, умолчали. Отчего бы это?
По существу наши представители спорили в Бюро следующим образом. Социал-демократ ссылался на число депутатов во второй Думе, как на самый точный критерий силы партий, оговариваясь, что для крестьян избирательный закон благоприятнее, чем для рабочих. С.-р. возражал, что кроме фракции с.-р. в Думе были почти что эсеры – и трудовики и народные социалисты. Частичку их надо, дескать, прибавить к эсерам! У энесов есть притом – буквальные слова социалиста-революционера – «писатели первоклассные» («écrivains de premier ordre», сказал Рубанович).
Представитель с.-д. ответил на это: да, у н.-с. есть «первоклассные писатели» – как есть они у французских радикалов-социалистов и радикалов{59}, вроде хотя бы Клемансо (тоже «первоклассный писатель»!). Но прилично ли это для самостоятельной партии ссылаться в доказательство своей силы на чужую партию? Прилично ли это, когда сами «первоклассные писатели» из энесов и не думают просить о допущении их на съезд?
Прилично ли, добавим мы от себя, в России изображать из себя ультрареволюционеров, а в Европе тащить для подмоги за волосы энесов?
«Пролетарий» № 17, 20 октября 1907 г.
Печатается по тексту газеты «Пролетарий»









