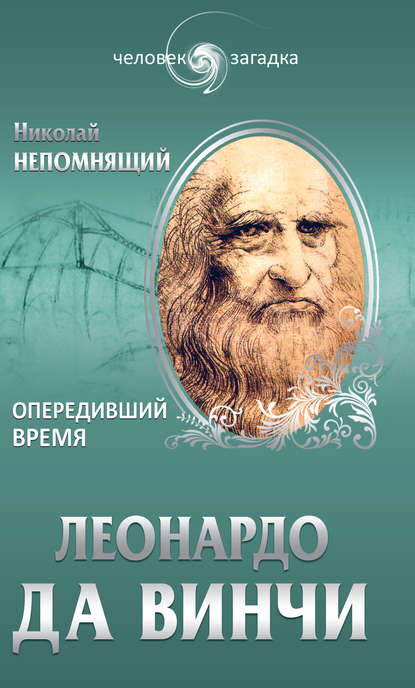Полная версия
Булгаков. Мистический Мастер
Если родители, особенно мать Михаила, этот брак переживали едва ли не как трагедию, то сами молодые, похоже, воспринимали происходящее достаточно спокойно. Во всяком случае, Т. Н. Лаппа много лет спустя описывала свадьбу с Михаилом довольно сдержанно, без особых эмоций: «Мать Михаила велела нам говеть перед свадьбой. У Булгаковых последнюю неделю перед Пасхой всегда был пост, а мы с Михаилом ходили в ресторан… Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья тоже – я куда-то дела все деньги, которые отец прислал (сумма по тем временам была, кстати сказать, немалая – 100 рублей. – Б. С.). Мама приехала на венчание – пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку… Священник Александр Глаголев нас венчал. Мы все время хохотали. Все время смеялись… Потом мы сели в карету и поехали на Андреевский спуск… Там мне преподнесли цветы, мы пообедали и пошли к себе домой на Рейтарскую…»
Михаил не одобрял связь матери с И. П. Воскресенским. Т. Н. Лаппа свидетельствует: «Михаил… все возмущался, что Варвара Михайловна с Воскресенским… Он каждую субботу приезжал в Бучу, а если они были в Киеве, приходил все время, поздно возвращался. Даже ночевать оставался где-то там… отдельно… не знаю, Михаила это очень раздражало. Он мне говорил: „Я просто…“ Он выходил из себя. Конечно, дети не любят, когда у матери какая-то другая привязанность. Или они уходили гулять куда-то там на даче, он говорит: „Что это такое, парочка какая пошла“. Переживал. Он прямо говорил мне: „Я просто поражаюсь, что мама затеяла роман с доктором“. Очень был недоволен». В «Белой гвардии» временем смерти матери Турбиных назван май 1918 г., когда состоялся ее брак с И. П. Воскресенским, который был младше Варвары Михайловны на десять лет.
Первые годы Михаил и Тася жили вполне счастливо, о деньгах, как и раньше, особенно не заботились. Достаточно много присылали родители Таси, Михаил к тому же давал частные уроки гимназистам, чтобы платить за квартиру, которую они снимали на Рейтарской, 25. А летом он стал еще подрабатывать контролером на дачных поездах.
Татьяна Николаевна навсегда запомнила это беззаботное время, которое уже никогда потом не могло повториться: «Мы все сразу тратили… Киев тогда был веселый город, кафе прямо на улицах, открытые, много людей… Мы ходили в кафе на углу Фундуклеевской, в ресторан „Ротце“. Вообще к деньгам он так относился: если есть деньги – надо их сразу использовать. Если последний рубль и стоит тут лихач – сядем и поедем! Или один скажет: „Так хочется прокатиться на авто!“ – тут же другой говорит: „Так в чем же дело – давай поедем!“ Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать, она видит – ни колец, ни цепи моей. „Ну, значит, все в ломбарде!“ – „Зато мы никому не должны!“»
В 1923 году, пережив бурю революции и Гражданской войны, Булгаков вспоминал о том волшебном периоде своей жизни в фельетоне «Киев-город»: «Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах. Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте… Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег…»
Главным для будущего писателя уже в юные годы стало увлечение театром и литературой. Н. А. Земская в своих дневниках упоминает ряд пьес, написанных Булгаковым «для домашнего употребления». В частности, две пьесы были посвящены свадьбе Михаила и Таси. Из первой, в духе Островского названной «С мира по нитке – голому шиш», приведем следующий диалог:
«Бабушка (Елизавета Николаевна Лаппа): Но где же они будут жить?
Доброжелательница (Софья Николаевна Лаппа-Давидович): Жить они вполне свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася – на умывальнике».
Вторая же пьеса, названная «Tempora mutantur (Времена меняются – лат.), или Что вышло из того, который женился, и из другого, который учился», сегодня именовалась бы комиксом. Это была пьеса в рисунках-карикатурах, нарисованных Михаилом и очень смешных. Главными героями были сам Михаил и его двоюродный брат Константин Булгаков. Эта пьеса была написана уже после начала Первой мировой войны, когда 18 августа 1914 года Санкт-Петербург был переименован в Петроград. На первой картинке Костя был в гимназической форме, а Михаил – в новеньком пиджаке и брюках и с папироской в зубах. Между ними происходил такой диалог: Миша: «Что ты все молчишь?» Костя: «Убирайся к черту!» На следующей картинке, датированной 1913 годом, Костя был уже в студенческой тужурке, а Михаил – в новом пиджаке с бабочкой, но слегка мятом, и с сигарой. Он радостно объявлял: «Я женюсь!», на что Костя в сердцах отвечал: «Ну и дурак!» Третья картинка была отнесена к 1915 году, когда, вероятно, и была написана пьеса. Там Константин был уже в форме военного чиновника геологоразведочного ведомства, а Михаил был в заплатанном костюме и заискивающе обращался к брату: «Здравствуй, Костенька! Ишь ты, какой ты стал важный!» Костя же отвечал презрительно: «А ты все такая же босявка!» Еще одна картинка переносила действие в не столь далекое и, как казалось, для большинства беспечальное будущее – 1925 год. Здесь Михаил уже был с бородкой и лысиной, в сильно потертом костюме, а Константин – в мундире высокопоставленного чиновника с орденом. Он давал Михаилу сторублевку со словами: «Получай… Но помни: в последний раз! Я так и знал, что из тебя ни черта не выйдет!» Миша же униженно оправдывался: «Жена, Костенька, дети!..» И, наконец, финальная картинка 1935 года. В служебном кабинете Костя с бакенбардами, в генеральском мундире с множеством орденов высших степеней дает небритому и оборванному Мише с красным носом закаленного пьяницы банкноту в пять тысяч рублей со словами: «Получай! И чтоб твоего духу в Петрограде не было! И если я узнаю, что ты осмелишься выдавать себя еще раз за моего родственника… я тебя, мерзавца…» Миша же в ответ только шепчет: «Слушш… Ваше… ство!»
Относительно К. П. Булгакова прогноз в целом сбылся. Константин Петрович, правда, не стал гражданским генералом, но, счастливо миновав все бури революции и Гражданской войны, работал в Американской организации помощи голодающим (АРА), эмигрировал и стал преуспевающим инженером-нефтяником и бизнесменом. Правда, в итоге мы теперь знаем его только как двоюродного брата великого писателя – Михаила Афанасьевича Булгакова.
Юмористическая струя в творчестве юного Булгакова питалась не только популярным в семействе Чеховым и обожаемым Гоголем… Н. А. Земская в 60-е годы писала К. Паустовскому: «Мы выписывали „Сатирикон“, активно читали тогдашних юмористов – прозаиков и поэтов (Аркадия Аверченко и Тэффи). Любили и хорошо знали Джерома К. Джерома и Марка Твена. Михаил Афанасьевич писал сатирические стихи о семейных событиях, сценки и „оперы“, давал всем нам стихотворные характеристики… Многие из его выражений и шуток стали у нас в доме „крылатыми словами“ и вошли у нас в семейный язык. Мы любили слушать его рассказы-импровизации, а он любил рассказывать нам, потому что мы были понимающие и сочувствующие слушатели, – контакт между аудиторией и рассказчиком был полный, и восхищение слушателей было полное». Эти рассказы-импровизации теперь широко известны: часть воспроизвел в своих книгах Константин Паустовский, часть после смерти писателя записала его вдова Елена Сергеевна. Относятся известные рассказы к 20–30-м годам и часто посвящены Сталину, но первые опыты импровизаций были еще в гимназические и студенческие годы.
С детских лет проявился у Булгакова и актерский талант. Первый такой любительский спектакль, в котором играл Булгаков, – это детская сказка «Царевна Горошина», поставленная в 1903–1904 гг. на квартире Сынгаевских, киевских друзей Булгаковых (Николай Сынгаевский послужил прототипом Мышлаевского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных»). Здесь двенадцатилетний Булгаков играл сразу две роли – атамана разбойников и Лешего. Как вспоминала позднее сестра Надя: «Миша исполняет роль Лешего, играет с таким мастерством, что при его появлении на сцене зрители испытывают жуткое чувство». Позднее, летом 1909 года, в водевиле «По бабушкиному завещанию», Булгаков играл жениха – мичмана Деревеева. Тогда же в Буче поставили «балет в стихах» «Спиритический сеанс» с устрашающим подзаголовком: «Нервных просят не смотреть». Михаил был одним из постановщиков и исполнил роль спирита. Возможно, какие-то детали этой постановки отразились в булгаковских фельетонах 20-х годов «Египетская мумия» и «Спиритический сеанс».
В дневнике Н. А. Земской в обширной записи от 25 марта 1910 года зафиксированы ее споры с Михаилом о вере и неверии: «Теперь о религии… Нет, я чувствую, что не могу еще! Я не могу еще писать. Я не ханжа, как говорит Миша. Я идеалистка, оптимистка… Я – не знаю… Нет, я пока не разрешу всего, не могу писать. А эти споры, где И. П. (Воскресенский. – Б. С.) и Миша защищали теорию Дарвина и где я всецело была на их стороне, – разве это не признание с моей стороны, разве не то, что я уже громко заговорила, о чем молчала даже самой себе, что я ответила Мише на его вопрос: „Христос – Бог, по-твоему?“ – „Нет!“ Сестра Михаила явно переживала душевное смятение: „Я не знаю! Я не знаю. Я не думаю… Я больше не буду говорить… Я боюсь решить, как Миша (здесь позднее Надежда Афанасьевна сделала пояснение: „неверие“. – Б. С.), а Лиля, Саша Гд<ешинский> считают меня еще на своей стороне… (здесь Н. А. Земская позднее приписала: „т. е. верующей“. – Б. С.), я тороплюсь отвечать, потому что кругом с меня потребовали ответа – только искренно я ни разу, – нет, раз – говорила… Решить, решить надо! А тогда… Я не знаю… Боже! Дайте мне веру! Дайте, дайте мне душу живую, которой бы я все рассказала“».
Возможно, подобное же душевное смятение несколько ранее пережил и Михаил. Надежда Афанасьевна свидетельствует, что в результате он сделал свой выбор. В 1940 году, очевидно, вскоре после кончины брата, она вложила в дневник листок с такой записью: «1910 г. Миша не говел в этом году (факт, отмеченный в дневнике 3 марта 1910 года. – Б. С.). Окончательно, по-видимому, решил для себя вопрос о религии – неверие. Увлечен Дарвином. Находит поддержку у Ивана Павловича». Насчет И. П. Воскресенского она заметила: «Иван Павлович был, по-видимому, совершенно равнодушен к религии и спокойно атеистичен и вместе с тем глубоко порядочен в самой своей сущности, человек долга до мозга костей…» Быть может, здесь отразились и позднейшие впечатления в связи с болезнью и смертью Булгакова, когда он, как и в юности, выказал атеистические взгляды. Однако, как мы увидим дальше, отношение будущего писателя к вере в 1910 году было определено далеко не окончательно и еще не раз менялось. Вопрос же о том, был ли Христос Богом или только человеком, впервые заданный им сестре еще 18-летним, Булгакову пришлось впоследствии решать в «Мастере и Маргарите».
Н. А. Земская зафиксировала в дневнике и другие разговоры с Михаилом. Всплеск, по ее собственному выражению, «споров на мировые темы» пришелся на зиму 1912/13 годов. 22 декабря 1912 года, встретившись на рождественские каникулы с братом и Александром Гдешинским, Надя пишет: «Конечно, они значительно интересней людей, с которыми я сталкиваюсь в Москве, и я бесконечно рада, что могу снова с ними говорить, спорить, что тут воскресают старые вопросы, которые надо выяснять, в новом ярком освещении». В записи же от 28 декабря того же года она перечисляет темы своих споров с Михаилом: «Теперь мне надо разобраться во всем, да нет времени: гений, эгоизм, талантливость, самомнение, наука, ложные интересы, права на эгоизм, широта мировоззрения и мелочность, вернее, узость, над чем работать, что читать, чего хотеть, цель жизни, свобода человеческой личности, дерзнуть или застыть, прежние идеалы или отрешение от них, непротивление злу – сиречь юродивость, или свобода делания хотя бы зла во имя талантливости, эрудиция и неразвитость, мошенничество или ошибка…»
А вот как передает она особенности булгаковской позиции: «Миша недавно в разговоре поразил меня широтой и глубиной своего выработанного мировоззрения – он в первый раз так разоткровенничался, – своей эрудицией, неоригинальностью взглядов, – многое из того, что он говорил, дойдя собственным умом, для меня было довольно старо, – но оригинальностью всей их компоновки и определенностью мировоззрения». По мнению Надежды Афанасьевны, у брата, в отличие от нее, отсутствовала «широкая, такая с некоторых точек зрения преступная терпимость к чужим мнениям и верованиям», поскольку «у Миши есть вера в свою правоту или желание этой веры, а отсюда невозможность или нежелание понять окончательно другого и отнестись терпимо к его мнению. Необузданная сатанинская гордость, развивавшаяся в мыслях все в одном направлении за папиросой у себя в углу, за односторонним подбором книг, гордость, поднимаемая сознанием собственной недюжинности, отвращение к обычному строю жизни – мещанскому – и отсюда „права на эгоизм“ и вместе рядом такая привязанность к жизненному внешнему комфорту, любовь, сознательная и оправданная самим, к тому, что для меня давно утратило свою силу и перестало интересовать. Если бы я нашла в себе силы позволить себе дойти до конца своих мыслей, не прикрываясь другими и всосанным нежеланием открыться перед чужим мнением, то вышло бы, я думаю, нечто похожее на Мишу по „дерзновению“, противоположное в некоторых пунктах и очень сходное во многом; но не могу: не чувствую за собой силы и права, что главней всего. И безумно хочется приобрести это право, и его я начну добиваться».
В спорах Булгакова с сестрой звучит вечный вопрос, поставленный Достоевским: «Тварь я дрожащая или право имею?» В начале XX столетия этот вопрос вновь будоражил ум и сердце русской молодежи в связи с растущей популярностью сочинений Ницше. В позднейшем примечании к записи от 8 января 1913 года Надежда Афанасьевна так и указала: «Тогда Ницше читали и толковали о нем; Ницше поразил воображение неокрепшей молодежи». Булгаков воспринял атеизм Ницше, сестра же не решалась отринуть веру, хотя ее терзали все растущие сомнения. Это мешало ей принять ницшеанство целиком, она не была убеждена в своем «праве». Михаил, напротив, казалось, бесповоротно уверовал в свою исключительность и великое (без сомнения, тогда уже точно – писательское) предназначение. Льва Толстого как художника он ценил очень высоко, но решительно не принимал Толстого-проповедника, с порога отвергал «непротивление злу насилием», называя учение это характерным словечком «юродивость». Будущий писатель явно предпочитал «делание хотя бы зла во имя талантливости». Позднее, в «Записках на манжетах», Булгаков явно иронизировал над проповедничеством Толстого: «Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. И сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят: „Пожалуйте обедать“. А я боюсь сойти. И так дурацки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал „Войну и мир“. А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит: „Иди. Вегетарианский обед“. И вдруг я рассердился. „Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки“. Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой, и укоризненно мне: „Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович? – Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!“ Скандал какой-то произошел. Проснулся совсем больной и разбитый».
Эгоизм, питавшийся «необузданной сатанинской гордостью», в чисто бытовом плане нередко причинял Булгакову неприятности вроде нараставшего отчуждения с матерью, еще чаще приносил огорчения близким – той же матери, братьям, сестрам, двум первым женам, которых он оставил.
Надежда Афанасьевна и в 1960 году, очевидно с учетом позднейшего общения с братом, в комментарии к цитированной записи категорически утверждала: «У Миши терпимости не было». Однако совсем не стоит сводить булгаковский эгоизм к примитивному себялюбию. Та же Н. А. Земская по поводу лозунга, выдвинутого братом: «Пусть девизом всего будет выеденное яйцо» писала: «Мишины слова: протест против придавания большого значения мелочам жизни, быта». Булгаков не только сознавал свою исключительность, но и утверждением своего «я» протестовал против, как он полагал, «мещанской» окружающей среды, где гений не может проявить себя. При этом он простодушно не замечал, как и всякий, в ком есть толика эгоизма (а таких – большинство в человечестве), что его собственное стремление к комфорту, мечты о «лампе и тишине», зафиксированные в записи Н. А. Земской 8 января 1913 года, приходят в очевидное окружающим противоречие с призывами не обращать внимания на мелочи быта.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.