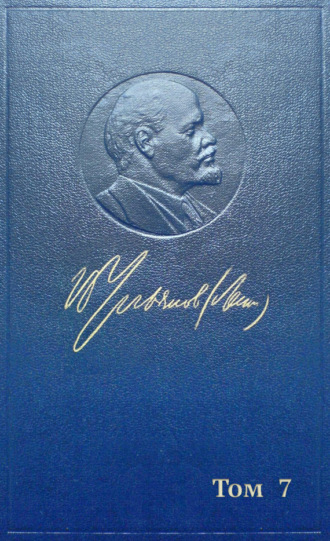 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 7. Сентябрь 1902 ~ сентябрь 1903
«Искра» № 32, 15 января 1903 г.
Печатается по тексту газеты «Искра»
Проект обращения русского организационного комитета к лиге, союзу и ЗКБ{46}
Во исполнение постановления весенней конференции (1902 г.) Российской социал-демократической рабочей партии{47} Организационный комитет предлагает Лиге русской революционной социал-демократии{48}, Заграничному «Союзу русских социал-демократов»{49} и Заграничному комитету Бунда{50} образовать заграничное отделение Организационного комитета Российской социал-демократической рабочей партии.
Функции этого заграничного отделения русского Организационного комитета должны состоять в следующем:
1) разработка вопроса о представительстве заграничных социал-демократических организаций на съезде. Окончательное решение этого вопроса зависит от русского Организационного комитета и затем от самого съезда; 2) содействие из-за границы устройству съезда (напр., деньги, паспорта и т. п.) и 3) подготовка объединения заграничных социал-демократических организаций, столь настоятельно необходимого в интересах партии и всего социал-демократического рабочего движения в России.
Написано 22 или 23 января (4 или 5 февраля) 1903 г.
Впервые напечатано в 1946 г. в 4 издании Сочинений В. И. Ленина, том 6
Печатается по рукописи
По поводу заявления Бунда
Мы только что получили № 106 «Последних Известий» Бунда{51} (от 3 февраля (21 января)), содержащий сообщение о чрезвычайно важном, решительном и до последней степени печальном шаге Бунда. Оказывается, что в России вышло заявление Центрального комитета Бунда по поводу извещения Организационного комитета. Вернее, впрочем, было бы сказать: заявление по поводу примечания в извещении ОК, ибо главным образом по поводу одного этого примечания и рассуждает Бунд в своем заявлении.
Дело вот в чем. Как знают наши читатели, ОК сказал в этом ужасном «примечании», из которого (будто бы из которого!) загорелся сыр-бор, буквально следующее:
«Бунду также было предложено прислать своего представителя в Организационный комитет, но по неизвестным нам причинам Бунд не отозвался на наше предложение. Надеемся, что причины эти были чисто случайные, и Бунд не замедлит прислать своего представителя».
Спрашивается, что может быть естественнее и невиннее этого примечания? Как мог поступить иначе ОК? Умолчать о Бунде было бы неправдой, ибо ОК не игнорировал его, да и не мог игнорировать, пока Бунд, на основании решения партийного съезда 1898 г., входит в Российскую социал-демократическую рабочую партию. А если не умолчать, то надо сказать, что мы приглашали. Кажется, это ясно? И еще более ясно, что если причины молчания Бунда были неизвестны ОК, то он должен был именно так и сказать: «по неизвестным нам причинам». Прибавкой слов: надеемся, что причины были чисто случайные и что Бунд не замедлит прислать представителя, – ОК заявлял открыто и прямо о своем желании работать вместе с Бундом над организацией съезда и восстановлением партии.
Очевидно, что если бы Бунд тоже разделял это желание, то ему оставалось только послать своего представителя, которого приглашали и конспиративным путем и в печатном заявлении. Вместо этого, Бунд вступает в полемику с примечанием (!!) и в печатном заявлении излагает отдельно и особо свои мнения и свои взгляды на задачи ОК, на условия созыва съезда. Прежде, чем рассматривать «полемику» Бунда, прежде, чем разбирать его взгляды, мы должны самым решительным образом протестовать против выступления Бунда с особым печатным заявлением, ибо это выступление нарушает элементарнейшие правила совместного ведения революционного дела, и особенно организационного дела. Одно из двух, господа: или вы не хотите работать в одном общем ОК, и тогда никто не посетует, конечно, на ваши отдельные выступления. Или вы хотите работать сообща, и тогда вы обязаны заявлять свои мнения не отдельно перед публикой, а перед товарищами по ОК, каковой ОК лишь как целое выступает уже публично.
Бунд сам прекрасно видит, конечно, что его выступление бьет в лицо всем правилам товарищеского ведения общего дела, и он пытается прибегнуть к следующему, совсем уже слабому, оправданию: «Не имев возможности выразить свои взгляды на задачи предстоящего съезда ни путем личного участия в совещании, ни путем участия в редактировании «Извещения», мы вынуждены хотя бы до некоторой степени восполнить этот пробел в настоящем заявлении». Спрашивается, неужели Бунд серьезно вздумает уверять, что он «не имел возможности» послать письма в ОК? или послать письмо в С.-Петербургский комитет? в организацию «Искры»{52}, в «Южный рабочий»{53}? А послать своего делегата в одну из этих организаций тоже не было возможности? Пытался ли Бунд сделать хоть один из этих «невозможно»-трудных шагов, особенно, вероятно, трудных для такой слабенькой, неопытной и лишенной всяких связей организации, как Бунд?
Нечего играть в прятки, господа! Это и неумно, и недостойно. Вы выступили отдельно, потому что вы захотели выступить отдельно. А захотели вы выступить отдельно, чтобы сразу же показать и провести свое решение поставить на новую почву отношения к русским товарищам: не входить в Российскую социал-демократическую рабочую партию на основании устава 1898 г., а быть в федеративном союзе с нею{54}. Вместо того, чтобы обсудить этот вопрос обстоятельно и всесторонне перед всем съездом, как хотели это сделать мы, воздерживавшиеся очень уже долго от продолжения начатой нами полемики по вопросу о федеративности и национальности{55}, – как хотели сделать, несомненно, все или громадное большинство русских товарищей, вместо этого вы сорвали совместное обсуждение. Вы выступили не как товарищ Петербурга, Юга, «Искры», желающий сообща с ними обсудить (и до съезда, и на съезде) наилучшую форму отношений, – вы выступили прямо как сторона, отдельно от всех членов РСДРП ставящая всей этой партии свои условия.
Насильно мил не будешь, говорит русская пословица. Если Бунд не хочет оставаться в той теснейшей связи с Российской социал-демократической рабочей партией, которую правильно наметил съезд 1898 года, то, конечно, он не останется в старых отношениях. Мы не отрицаем его «право» проводить свое мнение и свое желание (мы вообще не прибегаем, без крайней нужды, к разговорам о «правах» в революционном деле). Но мы очень жалеем, что Бунд потерял всякое чувство такта, проводя свое мнение путем отдельного публичного выступления в то самое время, когда его пригласили в общую организацию (ОК), не высказывающую заранее никакого категорического мнения по данному вопросу и созывающую съезд именно для обсуждения всех и всяких мнений.
Бунд пожелал провоцировать на немедленное заявление своего мнения всех, кто иначе смотрит на вопрос. Ну что ж! От этого мы, разумеется, не откажемся. Мы скажем русскому и специально повторим еврейскому пролетариату, что теперешние вожди Бунда делают серьезную политическую ошибку, которую, несомненно, исправит время, исправит опыт, исправит рост движения. Некогда Бунд поддерживал «экономизм», содействовал расколу за границей, принимал решения, что экономическая борьба есть лучшее средство политической агитации. Мы восставали против этого и боролись. И борьба помогла исправлению старых ошибок, от которых теперь, вероятно, не осталось и следа. Мы боролись против террористических увлечений, которые миновали, по-видимому, еще гораздо скорее. Мы уверены, что минуют и увлечения националистические. Еврейский пролетариат поймет, в конце концов, что теснейшее единение с русским в одной партии требуется самыми насущными его интересами, что верх неразумия предрешать заранее, будет ли эволюция еврейства в свободной России отличаться от его эволюции в свободной Европе, что Бунду не следует идти дальше требования (в Российской социал-демократической рабочей партии) той полной автономии в делах, касающихся еврейского пролетариата, которая вполне признана съездом 1898 г. и никогда никем не была отрицаема.
Но вернемся к заявлению Бунда. Примечание к «Извещению» ОК он называет «двусмысленным». Это – неправда, стоящая на границе инсинуации. ЦК Бунда сам признает парой строк далее, что «причины отсутствия нашего представителя на совещании были чисто случайные». А что сказал ОК? Он выразил надежду, что представитель Бунда не явился по случайной причине. Вы сами подтверждаете его предположение и сами же сердитесь. За что? Далее. Случайного никому не дано знать наперед. Значит, слова Заграничного комитета Бунда, будто ОК знал помешавшие явке причины, совсем неосновательны. ЗК Бунда играет вообще самую неприличную роль в этой истории: 3КБ добавляет к заявлению ЦК Бунда свои измышления, прямо противоречащие даже словам самого ЦК! Каким образом ЗК Бунда мог осведомиться, что ОК знал причины отсутствия Бунда, когда приглашен был ЦК (а не ЗК) Бунда? когда сам ЦК Бунда называет эти причины отсутствия чисто случайными??
«Мы уверены, – говорит ЦК Бунда, – что употреби инициаторы совещания несколько больше усилий, эти случайные причины не могли бы помешать нам отозваться…». Мы спросили бы всякого беспристрастного человека: если два товарища, собирающиеся съехаться в ОК, признают в один голос, что причины, помешавшие свиданию, были «чисто случайные», то уместно ли, прилично ли поднимать публичную полемику о том, кто больше виноват в неявке? С своей стороны заметим, что мы уже давно выражали (конечно, не в печати, а в письме) сожаление по поводу отсутствия Бунда, и нам было сообщено, что Бунд был приглашен дважды: во-первых, письмом и, во-вторых, личным сообщением через …ский комитет Бунда.
Делегат явился почти месяц спустя после совещания, жалуется Бунд. Да, это ужасное преступление, достойное, конечно, пропечатания, ибо оно особенно рельефно оттеняет аккуратность Бунда, не собравшегося послать делегата даже и два месяца спустя!
Делегат «не выполнил своего обещания» прислать «Извещение» ОК в рукописи или в печати, но обязательно до распространения… Мы советуем нашим русским товарищам не разговаривать с некоторыми людьми без протоколов. Мы вот тоже имели обещание от организации «Искры» прислать нам и рукопись, и печатный экземпляр «Извещения», но, тем не менее, рукописи не имели вовсе, а печатный экземпляр увидали гораздо позднее, чем члены организаций, не имеющих сношений с организацией «Искры». Пусть решат бундисты вопрос о том, прилично ли было бы с нашей стороны, если бы мы печатно стали обвинять организацию «Искры» в нарушении обещания? Делегат ОК обещал ЦК Бунда немедленно написать товарищу, распоряжавшемуся печатанием «Извещения», о задержании этого печатания: вот каково было настоящее обещание (насколько мы можем судить по нашим сведениям). Оно было выполнено, но задержать печатание оказалось уже невозможным, ибо снестись с техникой не оставалось времени.
Резюмируем: инициаторы ОК писали письма, делали сообщение лично через …ский комитет, посылали делегата в ЦК Бунда, а Бунд в течение месяцев не послал ни одного письма, не говоря о посылке делегата! И Бунд же выступает печатно с обвинениями! И ЗК Бунда имеет странность уверять, что «странно» вели себя инициаторы совещания, что их действия стоят в резком противоречии с их целью, что они проявили «поспешность» (ЦК Бунда, наоборот, обвиняет в медленности!), что они хотят «произвести впечатление», будто Бунд «отнесся индифферентно»!!
Нам остается еще сказать несколько слов по поводу обвинения ОК в том, что он не сделал «единственно правильного вывода», состоящего в следующем: «Раз партии фактически не существует, то предстоящий съезд должен носить характер учредительного, а потому право участия в нем должно принадлежать всем существующим в России социал-демократическим организациям как русской, так и всех других национальностей». Бунд пытается обойти тот неприятный для него факт, что, не имея единого центра, Российская социал-демократическая рабочая партия существует в ряде комитетов и органов, имеет «Манифест» и решения первого съезда, на котором, между прочим, и от имени еврейского пролетариата действовали люди, не преуспевшие еще в экономических, террористических и националистических шатаниях. Выдвинувши формально «права» «всех» национальностей на учреждение давно уж учрежденной Российской социал-демократической рабочей партии, Бунд наглядно подтверждает этим, что именно из-за вопроса о пресловутой «федерации» и поднял он всю историю. Но не Бунду бы об этом вопросе заговаривать, и не о «правах» должна тут идти речь между серьезными революционерами. Что на очереди дня стоит сплочение и объединение главного ядра Российской социал-демократической рабочей партии, это всем известно. Нельзя не сочувствовать представительству на съезде «всех» национальностей, но нельзя и забывать, что о расширении ядра или о союзе его с другими организациями можно думать только после завершения образования (или, по крайней мере, после несомненного упрочения) этого ядра. Пока мы сами не стали едины организационно и не встали твердо на верный путь, соединение с нами ничего не даст «всем другим» национальностям! И решение вопроса о возможности (а не о «праве», господа!) представительства на нашем съезде «всех других» национальностей зависит от целого ряда тактических и организационных шагов ОК и русских комитетов, зависит, одним словом, от успеха деятельности ОК. А что Бунд с самого начала постарался бросить палки под колеса ОК, это – исторический факт.
«Искра» № 33, 1 февраля 1903 г.
Печатается по тексту газеты «Искра»
О Манифесте «Союза армянских социал-демократов»
На Кавказе появилась новая социал-демократическая организация: «Союз армянских социал-демократов»{56}. Союз этот, как нам известно, более полугода как начал свою практическую деятельность и имеет уже свой орган на армянском языке. Нами получен № 1 этого органа, называемого «Пролетариат»{57} и помеченного в заголовке: «Российская социал-демократическая рабочая партия». Он заключает в себе ряд статей, заметок и корреспонденции, выясняющих общественные и политические условия, вызвавшие к существованию «Союз армянских социал-демократов» и намечающих, в общих чертах, программу его деятельности.
В передовой статье, называемой «Манифест армянских социал-демократов», мы читаем: «Являясь одною из ветвей Российской социал-демократической рабочей партии, широко раскинувшей свою сеть на всем пространстве России, «Союз армянских социал-демократов» вполне с нею солидарен в своей деятельности и будет бороться вместе с нею за интересы российского пролетариата вообще и армянского в частности». Далее, указывая на быстрое развитие капитализма на Кавказе и на те чудовищные, по своей силе и многосторонности, результаты, которыми сопровождается этот процесс, авторы переходят к вопросу о современном положении рабочего движения на Кавказе. В промышленных центрах Кавказа, каковыми являются Баку, Тифлис и Батум, с их крупными капиталистическими предприятиями и многочисленным фабричным пролетариатом, движение это пустило уже глубокие корни. Но борьба кавказских рабочих с хозяевами, ввиду их крайне низкого культурного уровня, естественно, носила до сих пор более или менее бессознательный, стихийный характер. Необходима была сила, которая могла бы объединить разрозненные силы рабочих, придать их требованиям членораздельную форму и выработать в них классовое самосознание. Такой силой является социализм. – Изложив затем вкратце основные положения научного социализма, Союз выясняет свою позицию по отношению к современным течениям в международной, и в частности русской, соц.-демократии. «Осуществление социалистического идеала, – говорится в Манифесте, – немыслимо, по нашему мнению, ни экономической самодеятельностью рабочего класса, ни частичными политическими и социальными реформами; оно возможно лишь посредством коренной ломки всего существующего строя, посредством социальной революции, необходимым прологом к которой должна служить политическая диктатура пролетариата». Далее, указывая на существующий в России политический строй, как враждебный всякому общественному и в особенности рабочему движению, Союз заявляет, что он ставит своей ближайшей задачей политическое воспитание армянского пролетариата и приобщение его к борьбе всего российского пролетариата для свержения царского самодержавия. Не отрицая вполне необходимости частичной экономической борьбы рабочих с хозяевами, Союз не придает ей, однако, самостоятельного значения. Он признает эту борьбу, поскольку она улучшает материальное положение рабочих и способствует выработке в них политического самосознания и классовой солидарности.
Особенно интересным для нас является отношение Союза к национальному вопросу. «Принимая во внимание, – говорится в Манифесте, – что в состав русского государства входит много различных народностей, находящихся на разных ступенях культурного развития, и полагая, что только широкое развитие местного самоуправления может обеспечить интересы этих разнородных элементов, мы считаем необходимым в будущей свободной России учреждение федеративной (курсив наш) республики. Что же касается Кавказа, то, имея в виду крайнюю разноплеменность его населения, мы будем стремиться к объединению всех местных социалистических элементов и всех рабочих, принадлежащих к различным национальностям; мы будем стремиться к созданию единой крепкой социал-демократической организации для более успешной борьбы с самодержавием. В будущей России мы признаем за всеми нациями право на свободное самоопределение, так как в национальной свободе мы усматриваем только один из видов гражданской свободы вообще. Исходя из этого положения и считаясь, как мы указывали выше, с разноплеменным составом Кавказа и с отсутствием географического разделения между отдельными племенами, мы не находим возможным внести в нашу программу требование политической автономии для кавказских народностей; мы требуем только автономии относительно культурной жизни, т. е. свободы языка, школ, образования и т. п.».
Мы от всей души приветствуем Манифест «Союза армянских социал-демократов» и особенно замечательную попытку его дать правильную постановку по национальному вопросу. Было бы весьма желательно, чтобы эта попытка была доведена до конца. Два основных принципа, которыми должны руководиться все социал-демократы России в национальном вопросе, намечены Союзом совершенно правильно. Это, во-первых, требование не национальной автономии, а политической и гражданской свободы и полной равноправности; это, во-вторых, требование права на самоопределение для каждой национальности, входящей в состав государства. Но оба эти принципа не вполне еще последовательно проведены «Союзом армянских социал-демократов». В самом деле, можно ли с их точки зрения говорить о требовании федеративной республики? Федерация предполагает автономные национальные политические целые, а Союз отказывается от требования национальной автономии. Чтобы быть вполне последовательным, Союз должен устранить из своей программы требование федеративной республики, ограничиваясь требованием демократической республики вообще. Не дело пролетариата проповедовать федерализм и национальную автономию, не дело пролетариата выставлять подобные требования, неминуемо сводящиеся к требованию создать автономное классовое государство. Дело пролетариата – теснее сплачивать как можно более широкие массы рабочих всех и всяких национальностей, сплачивать для борьбы на возможно более широкой арене за демократическую республику и за социализм. И если данная нам в настоящее время государственная арена создана, поддерживается и расширяется посредством ряда возмутительных насилий, то мы должны именно для успешной борьбы со всеми видами эксплуатации и гнета не раздроблять, а соединять силы наиболее угнетенного и наиболее способного к борьбе рабочего класса. Требование признания права на самоопределение за каждой национальностью означает само по себе лишь то, что мы, партия пролетариата, должны быть всегда и безусловно против всякой попытки насилием или несправедливостью влиять извне на народное самоопределение. Исполняя всегда этот свой отрицательный долг (борьбы и протеста против насилия), мы сами со своей стороны заботимся о самоопределении не народов и наций, а пролетариата в каждой национальности. Таким образом, общая, основная, всегда обязательная программа соц.-дем. России должна состоять лишь в требовании полного равноправия граждан (независимо от пола, языка, религии, расы, нации и т. д.) и права их на свободное демократическое самоопределение. Что же касается до поддержки требований национальной автономии, то эта поддержка отнюдь не является постоянной, программной обязанностью пролетариата. Эта поддержка может стать для него необходимой лишь в отдельных, исключительных случаях. По отношению к армянской социал-демократии отсутствие таких исключительных обстоятельств признано самим «Союзом армянских социал-демократов».
Мы надеемся еще вернуться к вопросу о федеративности и национальности[23]. А теперь закончим еще раз приветствием новому члену Российской социал-демократической рабочей партии – «Союзу армянских социал-демократов».
«Искра» № 33, 1 февраля 1903 г.
Печатается по тексту газеты «Искра»
Марксистские взгляды на аграрный вопрос в Европе и в России{58}
Написано: «Программа лекций» – ранее 10 (23) февраля 1903 г.; «Конспект первой лекции» – между 10 и 13 (23 и 26) февраля 1903 г.
Впервые напечатано в 1932 г. в Ленинском сборнике XIX
«Программа лекций» печатается по рукописи; «Конспект первой лекции»– по конспективной записи слушателя Русской высшей школы общественных наук в Париже, исправленной В. И. Лениным
Программа лекций
Лекция I. Общая теория аграрного вопроса. Образование капиталистического земледелия. Различные формы роста торгового земледелия и образование класса сельскохозяйственных наемных рабочих. Теория ренты Маркса. Буржуазный характер учений так называемой критической школы (гг. Булгаков, Герц, Давид, Чернов, отчасти Маслов и пр.), пытающейся объяснить естественными законами (вроде пресловутого закона уменьшающегося плодородия почвы) существование дани, взимаемой с общества землевладельцами. Противоречия капитализма в земледелии.
Лекция II. Мелкое и крупное производство в земледелии.
Усилия так называемой критической школы затушевать рабство мелкого производителя в современном обществе. Разбор монографических исследований, совершенно превратно понятых этой школой (М. Гехт, К. Клавки, Аугаген).
Лекция III. Продолжение. Баденская анкета. Полное подтверждение марксистских взглядов ее результатами. Общие данные германской аграрной статистики. Сказка о латифундиарном вырождении крупного капитала. Машины в земледелии. Наибольшее ухудшение рабочего скота в среднекрестьянском хозяйстве. Кооперации в земледелии; немецкие массовые данные 1895 года о молочных товариществах. Различие по форме между кооперациями в земледелии и трестами в промышленности, помешавшее так называемой критической школе понять полную однородность тех и других по их общественно-экономическому содержанию.
Лекция IV. Постановка аграрного вопроса в России, Основы народнического миросозерцания и его историческое значение, как примитивной формы аграрной демократии. Центральное значение вопроса о крестьянстве (община и народное производство). Распадение крестьянства на сельскую буржуазию и сельский пролетариат. Приемы изучения этого процесса и его значение. Смена барщинного хозяйства капиталистическим. Реакционный характер народнических воззрений. Запросы современного исторического момента: устранение остатков крепостного права и свободное развитие классовой борьбы в деревне.
Конспект первой лекции
Общая теория
Теория Маркса о развитии капиталистического способа производства так же относится к земледелию, как и к промышленности. Не надо смешивать основных черт капитализма и разных форм его в земледелии и промышленности.
Разберем, в чем состоят характерные основные черты и особенные формы процесса, создающего капиталистический строй земледелия. Причина зарождения этого процесса двоякая: 1) товарное производство и 2) то, что товаром является не продукт, а рабочая сила. Когда эта сила вовлекается в обмен, все производство становится капиталистическим, создается особый класс пролетариата. Рост товарного производства и развитие наемного труда в земледелии происходит в иной форме, нежели в промышленности, поэтому применение сюда теории Маркса может показаться неверным, но надо знать, в какой форме земледелие становится капиталистическим. Для этого прежде всего надо выяснить 2 явления:









