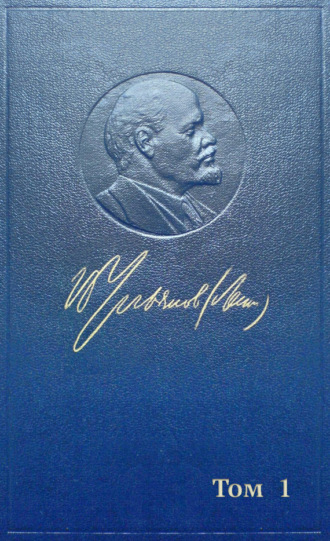 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894
Автор совершенно прав в своем «объективном» констатировании «исторических сосуществований», но тем более досады возбуждает недоговоренность его аргументации. Так и хочется сказать ему: договаривайте же! сводите эти общие положения и исторические справки к определенному периоду нашей русской истории, формулируйте их так, чтобы показать, почему и в чем именно отличается ваше понимание от народнического, сопоставляйте их с той действительностью, которая должна служить критерием для русского марксиста, показывайте классовые противоречия, скрадываемые всеми этими прогрессами и культурами[204].
Тот «прогресс» и та «культура», которые принесла с собой пореформенная Россия, несомненно, связаны с «институтом частной собственности» – он не только был проведен впервые со всей полнотой созданием нового «состязательного» гражданского процесса, обеспечившего такое же «равенство» на суде, которое воплощалось в жизни «свободным трудом» и его продажей капиталу; он был распространен на землевладение как помещиков, избавленных от всех государственных повинностей и обязанностей, так и крестьян, превратившихся в крестьян-собственников; он был положен даже в основание политических прав «граждан» на участие в местном самоуправлении (ценз) и т. д. Еще более несомненна «связь» нашего «прогресса» с «принципами экономической свободы»: мы уже слышали в I главе от нашего народника, как эта «свобода» состояла в освобождении «скромных и бородатых» собирателей земли русской от необходимости «смиряться пред малым полицейским чином». Мы уже говорили о том, как «чувство индивидуализма» создавалось развитием товарного хозяйства. Сводя вместе все эти черты отечественного прогресса, нельзя не придти к выводу (сделанному и народником 70-х годов), что этот прогресс и культура были сплошь буржуазными. Современная Россия гораздо лучше дореформенной, но так как все это улучшение целиком и исключительно обязано буржуазии, ее агентам и идеологам, то производители им и не воспользовались. Для них эти улучшения означали только перемену формы прибавочного продукта, означали только улучшенные и усовершенствованные приемы освобождения производителя от средств производства. Поэтому гг. народники проявляют самое невероятное «легкомыслие» и забывчивость, когда с протестом против русского капитализма и буржуазности обращаются к тем, кто именно и был их носителем и проводником. Про них только и можно сказать: «своя своих не познаша».
Согласиться с такой квалификацией пореформенной России и «общества» современному народнику будет не под силу. А чтобы оспаривать это, ему пришлось бы отрицать буржуазный характер пореформенной России, отрицать то самое, во имя чего поднимался его отдаленный предок, народник 70-х годов, и «шел в народ» искать «залогов будущего» у самих непосредственных производителей. Конечно, современный народник не только решится, чего доброго, отрицать это, но и станет, пожалуй, доказывать, что в рассматриваемом отношении произошла перемена к лучшему; но этим он только показал бы всем, кто еще этого не видит, что он не представляет из себя решительно ничего более, как самого обыкновенного маленького буржуа.
Как видит читатель, мне приходится только договаривать положения г. Струве, давать им иную формулировку, – «то же слово да иначе молвить». Спрашивается, есть ли нужда в этом? Стоит ли останавливаться с такой подробностью на этих дополнениях и выводах? Не разумеются ли они сами собой?
Мне кажется, – стоит, по двум причинам. Во-первых, узкий объективизм автора крайне опасен, так как доходит до забвения граней между старыми, так вкоренившимися в нашей литературе, профессорскими рассуждениями о путях и судьбах отечества, – и точной характеристикой действительного процесса, двигаемого такими-то классами. Этот узкий объективизм, эта невыдержанность марксизма – основной недостаток книги г. Струве, и на нем необходимо особенно подробно остановиться, чтобы показать, что он вытекает именно не из марксизма, а из недостаточного проведения его; не из того, чтобы автор видел иные критерии своей теории, кроме действительности, чтобы он делал другие практические выводы из доктрины (они невозможны, повторяю, немыслимы без искалечения всех главнейших ее положений), а потому, что автор ограничился одной, наиболее общей, стороной теории и не провел ее с полной последовательностью. Во-вторых, нельзя не согласиться с той мыслью, которая высказана автором в предисловии, что, прежде чем критиковать народничество на частных вопросах, необходимо было «раскрыть самые основы разногласия» (VII) посредством «принципиальной полемики». Но именно для того, чтобы эта цель автора не осталась недостигнутой, и необходимо придать более конкретный смысл почти всем его положениям, необходимо свести его слишком общие указания на конкретные вопросы русской истории и действительности. По всем этим вопросам предстоит еще русским марксистам большая работа «пересмотра фактов» с материалистической точки зрения, – раскрытия классовых противоречий в деятельности «общества» и «государства», за теориями «интеллигенции», – наконец, работа по установлению связи между всеми отдельными, бесконечно разнообразными, формами присвоения прибавочного продукта в российских «народных» производствах и той передовой, наиболее развитой капиталистической формой этого присвоения, которая содержит в себе «залоги будущего» и выдвигает в настоящее время на первый план идею и историческую задачу «производителя». Поэтому, как бы ни казалась смелой попытка указать решение этих вопросов, сколько изменений, исправлений ни принесло бы дальнейшее, детальное изучение, – все-таки стоит труда наметить конкретные вопросы, чтобы вызвать возможно более общее и широкое обсуждение их.
Кульминационной точкой того узкого объективизма г. Струве, который порождает у него неправильность постановки вопросов, является рассуждение его о Листе, о его «замечательном учении» насчет «конфедерации национальных производительных сил», о важности для сельского хозяйства развития фабричной промышленности, о превосходстве мануфактурно-земледельческого государства над земледельческим и т. п. Автор находит, что это «учение» чрезвычайно «убедительно говорит об исторической неизбежности и законности капитализма в широком смысле слова» (123), о «культурно-исторической мощи торжествующего товарного производства» (124).
Профессорский характер рассуждений автора, как бы поднимающегося выше всяких определенных стран, определенных исторических периодов, определенных классов, сказывается тут особенно наглядно. Как ни смотреть на это рассуждение, – с теоретической ли чисто или с практической стороны, – одинаково правильна будет такая оценка. Начнем с первой. Не странно ли думать, что можно «убедить» кого бы то ни было в «исторической неизбежности и законности капитализма» для известной страны абстрактными, догматичными положениями о значении фабричной промышленности? Не ошибка ли ставить вопрос на эту почву, столь любезную либеральным профессорам из «Русского Богатства»? Не обязательно ли для марксиста свести все дело к выяснению того, что есть и почему есть именно так, а не иначе?
Народники считают наш капитализм искусственным, тепличным растением, потому что не понимают связи его со всей товарной организацией нашего общественного хозяйства, не видят корней его в нашем «народном производстве». Покажите им эти связи и корни, покажите, что капитализм господствует в наименее развитой и потому в наихудшей форме и в народном производстве, – и вы докажете «неизбежность» русского капитализма. Покажите, что этот капитализм, повышая производительность труда и обобществляя его, развивает и выясняет ту классовую, социальную противоположность, которая повсюду сложилась в «народном производстве», – и вы докажете «законность» русского крупного капитализма. Что касается до практической стороны этого рассуждения, соприкасающегося с вопросом о торговой политике, то можно заметить следующее. Русские марксисты, подчеркивая прежде всего и сильнее всего, что вопрос о свободе торговли и протекционизме есть вопрос капиталистический, вопрос буржуазной политики, должны стоять за свободу торговли, так как в России с особенной силой сказывается реакционность протекционизма, задерживающего экономическое развитие страны, служащего интересам не всего класса буржуазии, а лишь кучке олигархов-тузов, – так как свобода торговли означает ускорение того процесса, который несет средства избавления от капитализма.
Последний § (XI) III главы посвящен разбору понятия «капитализм». Автор очень справедливо указывает, что это слово употребляется «весьма вольно», приводит примеры «очень узкого» и «очень широкого» его понимания, но никаких точно определенных признаков не устанавливает; понятие – «капитализм», несмотря на разбор автора, осталось неразобранным. А между тем, казалось бы, это не должно представить особенного труда, потому что понятие это введено в науку Марксом и им же обосновано фактически. Но г. Струве и тут не желал бы заражаться «ортодоксией». «Маркс сам, – говорит он, – представлял себе процесс превращения товарного производства в товарно-капиталистическое, быть может, более стремительным и прямолинейным, чем он есть на самом деле» (стр. 127, прим.). Быть может. Но так как это единственное представление, обоснованное научно и подкрепленное историей капитала, так как с другими представлениями, «быть может» менее «стремительными» и менее «прямолинейными», мы не знакомы, то мы и обратимся к Марксу. Существенными признаками капитализма, по его учению, являются (1) товарное производство, как общая форма производства. Продукт принимает форму товара в самых различных общественных производственных организмах, но только в капиталистическом производстве такая форма продукта труда является общей, а не исключительной, не единичной, не случайной. Второй признак капитализма (2) – принятие товарной формы не только продуктом труда, но и самим трудом, т. е. рабочей силой человека. Степень развития товарной формы рабочей силы характеризует степень развития капитализма[205]. – При помощи этого определения мы легко разберемся в приводимых г. Струве примерах неправильного понимания этого термина. Несомненно, что противопоставление русских порядков капитализму, основанное на технической отсталости нашего народного хозяйства, на преобладании ручного производства и т. п., и так часто приводимое народниками, – совершенно нелепо, ибо капитализм существует и при низкой и при высоко развитой технике, и Маркс много раз подчеркивает в «Капитале», что капитал сначала подчиняет себе производство таким, каким он его находит, и лишь впоследствии преобразует его технически. Несомненно, что немецкая Hausindustrie, русская «домашняя система крупного производства» представляют из себя капиталистическую организацию промышленности, ибо тут не только господствует товарное производство, но и владелец денег господствует над производителем и присваивает себе сверхстоимость. Несомненно, что любимое народническое противопоставление западноевропейскому капитализму русского «владеющего землей» крестьянства показывает тоже только непонимание того, что такое капитализм. И на Западе, как совершенно справедливо замечает автор, сохраняется кое-где «полунатуральное хозяйство крестьян» (124), но этот факт ни на Западе, ни в России не устраняет ни преобладания товарного производства, ни подчинения преобладающего большинства производителей капиталу, – подчинения, которое до своего высшего, предельного развития проходит много ступеней, обыкновенно народниками игнорируемых, несмотря на совершенно точное разъяснение дела Марксом. Начинается это подчинение торговым и ростовщическим капиталом, затем переходит в индустриальный капитализм, который в свою очередь сначала является технически совершенно примитивным и ничем не отличается от старых систем производства, затем организует мануфактуру, – которая все еще основывается на ручном труде, покоится на преобладающих кустарных промыслах, не нарушая связи наемного рабочего с землей, – и завершает развитие крупной машинной индустрией. Только последняя, высшая стадия представляет кульминационную точку развития капитализма, только она создает совершенно экспроприированного, свободного, как птица, рабочего[206], только она порождает (и в материальном и в социальном отношении) то «объединяющее значение» капитализма, которое народники привыкли связывать с капитализмом вообще, только она противополагает капитализму его «кровное детище».
Четвертая глава книги: «Прогресс экономический и прогресс социальный» составляет прямое продолжение третьей главы, относясь к той части книги, которая выдвигает против народников данные «общечеловеческого опыта». Нам придется тут подробно остановиться, во-первых, на одном неправильном взгляде автора [или неудачном выражении?] насчет последователей Маркса и, во-вторых, на формулировке задач экономической критики народничества.
Г-н Струве говорит, что Маркс представлял себе переход от капитализма к новому общественному строю в виде резкого падения, крушения капитализма. (Он находит, что это дают основание думать «некоторые места» у Маркса, тогда как на самом деле этот взгляд содержится во всех сочинениях Маркса.) Последователи его борются за реформы. В точку зрения Маркса 40-х годов «внесен был важный корректив»: вместо «пропасти», отделяющей капитализм от нового строя, был признан «целый ряд переходов».
Мы никак не можем признать это правильным. Никакого «корректива» (исправления по-русски) ни важного ни неважного не вносили «последователи Маркса» в его точку зрения. Борьба за реформы нисколько не свидетельствует о «коррективе», нимало не исправляет учения о пропасти и резком падении, так как эта борьба ведется с открыто и определенно признанной целью – дойти именно до «падения»; а что для этого необходим «целый ряд переходов» – одного фазиса борьбы, одной ступени ее в следующие, – это признавал и Маркс в 1840-х годах, говоря в «Манифесте», что нельзя отделять движение к новому строю от рабочего движения (и, следовательно, от борьбы за реформы), выставляя сам в заключение ряд практических мероприятий{102}.
Если г. Струве хотел указать на развитие точки зрения Маркса, то он, конечно, прав. Но тогда мы видим тут не «корректив» к его взглядам, а как раз наоборот: проведение, осуществление их.
Мы не можем также согласиться с отношением автора к народничеству.
«Наша народническая литература, – говорит он, – подхватила противопоставление национального богатства и народного благосостояния, прогресса социального, прогресса распределения» (131).
Народничество не «подхватило» этого противопоставления, а только констатировало наличность в пореформенной России той же противоположности между прогрессом, культурой, богатством и – освобождением производителя от средств производства, уменьшением доли производителя в продукте народного труда, ростом нищеты и безработицы, которая создала это противопоставление и на Западе.
«…В силу своего гуманного, народолюбивого характера, эта литература сразу решила вопрос в пользу народного благосостояния, и так как некоторые народно-экономические формы (община, артель), по-видимому, воплощали в себе идеал экономического равенства и таким образом обеспечивали народное благосостояние, а прогресс производства под влиянием усиленного обмена отнюдь не обещал благоприятствовать этим формам, устраняя их экономические и психические основы, то народники, указывая на печальный опыт Запада с производственным прогрессом, опирающимся на частную собственность и экономическую свободу, противопоставили товарному хозяйству – капитализму так называемое «народное производство», гарантирующее народное благосостояние, как общественно-экономический идеал, за сохранение и дальнейшее развитие которого надлежит бороться русской интеллигенции и русскому народу».
В этом рассуждении с полной наглядностью выступают недостатки изложения у г. Струве. Народничество изображается как «гуманная» теория, которая «подхватила» противопоставление национального богатства и народной бедности, «решила вопрос» в пользу распределения, ибо «опыт Запада» «не обещал» народного благосостояния. И автор начинает спорить против такого «решения» вопроса, упуская из виду, что он воюет только против идеалистического и притом наивно-мечтательного облачения народничества, а не против его содержания, упуская из виду, что он самым уже допущением обычной у гг. народников профессорской постановки вопроса делает крупную ошибку. – Как уже было замечено, содержание народничеству дает отражение точки зрения и интересов русского мелкого производителя. «Гуманность и народолюбивость» теории была следствием придавленного положения нашего мелкого производителя, терпевшего жестокие невзгоды и от «стародворянских» порядков и традиций и от гнета крупного капитала. Отношение народничества к «Западу» и его влиянию на Россию определилось, конечно, уже не тем, что оно «подхватило» у него ту или иную идею, а условиями жизни мелкого производителя: он видел против себя крупный капитализм, заимствующий западноевропейскую технику[207], и, будучи угнетаем им, строил наивные теории, объяснявшие не капиталистическую политику капиталистическим хозяйством, а капитализм – политикой, объявлявшие крупный капитализм чем-то чуждым русской жизни, наносным. Прикрепление к своему отдельному маленькому хозяйству отнимало у него возможность понять истинный характер государства, – и он обращался к нему с просьбой о поддержке и развитии мелкого («народного») производства. Неразвитость классовой противоположности, присущей русскому капиталистическому обществу, породила то, что теория этих идеологов мещанства выступила как представительница интересов труда вообще.
Вместо того, чтобы показать нелепость самой уже постановки вопроса у народников и объяснить их «решение» этого вопроса материальными условиями жизни мелкого производителя, автор сам в своей постановке вопроса проявляет догматизм, напоминающий о народническом «выборе» между экономическим и социальным прогрессом.
«Задачей критики экономических основ народничества… является… доказать следующее:
1) Прогресс экономический есть необходимое условие прогресса социального; последний исторически вытекает из первого, и на известной ступени развития между обоими процессами должно явиться и на самом деле является органическое взаимодействие, взаимная обусловленность» (133).
Вообще говоря, положение это, разумеется, совершенно справедливо. Но оно намечает скорее задачи критики социологических, а не экономических основ народничества: в сущности, это – иная формулировка того учения, по которому развитие общества определяется развитием производительных сил и о котором шла речь в I и II главах. Для критики «экономических основ народничества» этого недостаточно. Надо конкретнее формулировать вопрос, свести его от прогресса вообще к «прогрессу» капиталистического русского общества, к тем неправильностям в понимании этого прогресса, которые породили смешные народнические сказки о tabula rasa, о «народном производстве», о беспочвенности русского капитализма и т. д. Вместо того, чтобы говорить: между экономическим и социальным прогрессом должно явиться взаимодействие, – надо указать (или хотя бы наметить) определенные явления социального прогресса в России, у которых народники не видят таких-то экономических корней[208].
«2) Поэтому вопрос об организации производства и степени производительности труда есть вопрос, первенствующий над вопросом о распределении; при известных исторических условиях, когда производительность народного труда и абсолютно и относительно очень низка, первостепенное значение производственного момента сказывается особенно резко».
Автор опирается тут на учение Маркса о подчиненном значении распределения. Эпиграфом к IV главе взяты слова его из замечаний на Готскую программу{103}, где Маркс противопоставляет вульгарный социализм – научному, который не придает существенного значения распределению, объясняя общественный строй организацией производственных отношений и считая, что данная организация их уже включает в себе определенную систему распределения. Эта идея, по совершенно справедливому замечанию автора, проникает собой все учение Маркса, и она имеет крайне важное значение для уяснения мещанского содержания народничества. Но вторая половина фразы г. Струве сильно затуманивает ее, особенно благодаря неясному термину «производственный момент». Может, пожалуй, возникнуть недоумение, в каком смысле понимать этот термин. Народник стоит на точке зрения мелкого производителя, объясняющего свои невзгоды крайне поверхностно: тем, что он «беден», а сосед скупщик «богат», тем, что «начальство» помогает только крупному капиталу и т. д., одним словом, особенностями распределения, ошибками политики и т. п. Какую же точку зрения противополагает ему автор: точку ли зрения крупного капитала, с презрением смотрящего на мизерное хозяйствование крестьянина-кустаря и гордящегося высокой степенью развития своего производства, своей «заслугой», состоящей в повышении и абсолютно и относительно низкой производительности народного труда? или точку зрения его антипода, который живет уже в отношениях настолько развитых, что не может удовлетвориться ссылками на политику да на распределение, который начинает понимать, что причина лежит глубже – в самой организации (общественной) производства, в самом устройстве общественного хозяйства на началах индивидуальной собственности под контролем и руководством рынка? Такой вопрос, естественно, мог бы возникнуть у читателя, тем более, что автор иногда употребляет выражение «производственный момент» наряду с выражением «хозяйственность» (см. с. 171: «игнорирование производственного момента» у народников, «доходящее до отрицания всякой хозяйственности»), тем более, что автор иногда соотношением «нерационального» и «рационального» производства заслоняет отношение мелкого производителя и производителя, окончательно уже потерявшего средства производства. Спору нет, что верность изложения автора с объективной стороны от этого не уменьшается; что представить себе дело с точки зрения последнего отношения легко для всякого понимающего антагонистичность капиталистического строя. Но так как общеизвестно, что именно господа российские народники этого не понимают, то в спорах с ними и желательно видеть больше определенности и договоренности и как можно меньше слишком общих абстрактных положений.
Как мы старались показать на конкретном примере в I главе, все отличие народничества от марксизма состоит в характере критики русского капитализма. Народник для критики капитализма считает достаточным констатировать наличность эксплуатации, взаимодействие между ней и политикой и т. п. Марксист считает необходимым объяснить и связать вместе эти явления эксплуатации как систему известных производственных отношений, как особую общественно-экономическую формацию, законы функционирования и развития которой подлежат объективному изучению. Народник считает достаточным для критики капитализма – осудить его с точки зрения своих идеалов, с точки зрения «современной науки и современных нравственных идей». Марксист считает необходимым проследить со всей подробностью те классы, которые образуются в капиталистическом обществе, считает основательной только критику с точки зрения определенного класса, – критику, основывающуюся не на моральных суждениях «личности», а на точной формулировке действительно происходящего общественного процесса.
Если попытаться, исходя из этого, формулировать задачи критики экономических основ народничества, то они выразились бы примерно таким образом:
Надо доказать, что крупный капитализм в России относится к «народному производству», как вполне развитое явление к неразвитому, как высшая стадия развития капиталистической общественной формации к низшей ее стадии[209]; – что освобождение производителя от средств производства и присвоение продукта его труда владельцем денег должно быть объяснено как на фабрике, так и в самой хотя бы общинной деревне не политикой, не распределением, а теми отношениями производства, которые необходимо складываются в товарном хозяйстве, тем образованием противоположных по своим интересам классов, которое характеризует капиталистическое общество[210]; – что та действительность (мелкое производство), которую народники хотят поднять на высшую ступень, минуя капитализм, уже включает в себя капитализм и присущую ему противоположность классов и столкновения их, – но только в наихудшей ее форме, затрудняющей самостоятельную деятельность производителя, и что поэтому народники, игнорируя сложившиеся уже социальные противоположности и мечтая об «иных путях для отечества», являются утопистами-реакционерами, так как крупный капитализм только развивает, очищает и выясняет содержание этих противоположностей, существующих в России везде и повсюду.









