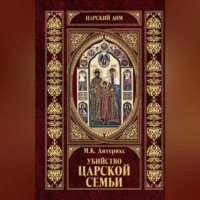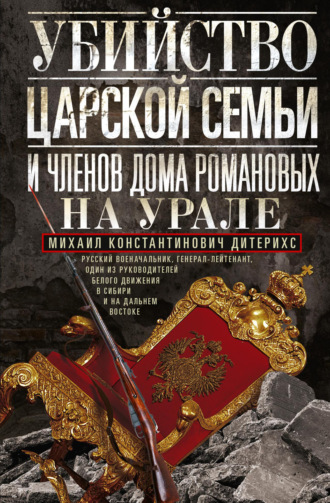
Полная версия
Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале
Мало того, не говоря про слабость розыска предметов и вещей вокруг шахты, Наметкин не отметил в своем протоколе даже всего того, что было тогда найдено. Таким образом, были пропущены найденные там же, вокруг шахты: карманная складная рамочка государя императора; разломанные и побитые шейные иконы: Спасителя, святых Гурия, Самона и Авива, Николая Чудотворца и 28 кусков эмали от разбитых нательных икон; часть золотого украшения с тремя бриллиантами и ясным следом отруба каким-то рубящим оружием; осколки от зеленого флакона государыни, с пробкой-короной.
Отыскать тела оказалось не так просто, как представлялось офицерам по первому впечатлению: Наметкин не дал им правильных путей к простейшему и легчайшему способу напасть на верные следы, а чтобы проникнуть в шахту, надо было сначала удалить из нее воду. Первое упущение нанесло особо непоправимый вред для будущего, ибо все следы, оставленные здесь советскими деятелями, следы их работы здесь, следы людей, лошадей, экипажей и автомобилей были в ближайшие дни затерты самими офицерами, работавшими по откачке шахты.
Офицеры сами почувствовали неудовлетворительность работы Наметкина. Они отлично понимали, что в деле расследования сами могут быть или черной рабочей силой, или только наблюдающими. Но тонкость розыска, техника его, которые могли привести к правильным выводам и положительным результатам, были не в их опыте, средствах и знаниях, а в руководстве Наметкина. Против него появилось озлобление и, как общее свойство этого периода, – недоверие, подозрительность. Офицеры становились на путь самостоятельных розысков, самостоятельных действий, опасаясь, что Наметкин умышленно ведет дело к затемнению его, а не к выяснению истины. А это, в свою очередь, при отсутствии технических знаний и знакомства с шахтенной работой, не обещало успеха.
2 августа, не приглашая Наметкина и никаких специалистов, офицеры самостоятельно приступили к откачиванию воды из шахты. Дело это было поручено штабс-капитану Александру Андреевичу Шереметьевскому, как офицеру, жившему в районе уральского горного округа и кое-что понимавшему в горном деле. В качестве рабочей силы были отряжены военнопленные австрийцы, ничего в этом деле не понимавшие. Несмотря на энергию, неутомимость, а порой и самоотверженность, выказанные Шереметьевским, работа шла совсем плохо; в распоряжении Шереметьевского были только слабые ручные водоотливные средства, не дававшие никаких результатов при откачивании из шахты воды. Работая круглые сутки, Шереметьевскому не удавалось понизить уровень ни на вершок; становилось ясным, что шахта имеет какой-то подземный источник пополнения, более мощный, чем водоотливные средства Шереметьевского. Сколько бы ни откачивали – вода все время оставалась на одном уровне.
Погода была скверная, шли непрерывные дожди, усугублявшие условия работы. Вдобавок ко всему этому, 11 августа работу пришлось прекратить совершенно и снять рабочих, так как район шахты стал районом боевых действий, вызванных переходом красных в частичное контрнаступление.
Чтобы помочь офицерам и улучшить постановку дела, по соглашению между начальником гарнизона генералом Голицыным и прокурором суда общее наблюдение за розыском тел в районе Ганиной ямы было возложено на товарища прокурора Н. Магницкого. Последний, ознакомившись с положением, создавшимся у Шереметьевского, пригласил для выяснения технических причин неудовлетворительности откачки воды из шахты горного инженера Валериана Сергеевича Котенева, который сразу определил, что шахта через подземные расщелины все время питается водой из Ганиной ямы. Следовательно, чтобы обезводить шахту, надо выкачать воду из Ганиной ямы.
Работа оказалась значительно серьезнее, чем предполагали офицеры, но Котеневу удалось добыть на Верх-Исетском заводе паровую машину, привести ее в порядок, и 15 августа началась выкачка воды из Ганиной ямы и одновременно из шахты. Вода в шахте быстро пошла на убыль.
Напряженное, тревожное ожидание охватило всех офицеров; с каждым часом вода в шахте уходила все ниже и ниже, росло нетерпение, а с ним усиливалось нервное возбуждение от острого желания и вместе с тем ужаса стать лицом перед величием тайны мученической смерти.
19 августа открылось дно шахты: тел августейшей семьи в шахте не оказалось. Не было и в Ганиной яме.
Ил со дна шахты собрали, промыли и в нем нашли: человеческий отрезанный палец и два кусочка человеческой кожи; жемчужную серьгу государыни императрицы; верхнюю вставную челюсть доктора Боткина; еще кусочек жемчужины, по-видимому, от парной, но разбитой серьги государыни; застежку для галстука; шанцевую лопатку и несколько мелких предметов, таких как пряжки, пуговки, крючки и т. п.
Удар для офицеров был страшный, все были уверены, что тела должны быть непременно в шахте. И вот их нет.
Тогда бросились искать всюду, где только указывалось разными слухами, мнениями, предположениями, досужими сведениями, не считаясь ни с какими другими обстоятельствами и данными обстановки. Это было просто уже метание из стороны в сторону, переброска от одного предположения к другому, вызывавшиеся скорее жаждой к усиленной деятельности, желанием заглушить боль обманутого ожидания и бессилием в разрешении тайны. Были осмотрены и перерыты разные пункты: Мокрый луг, Березовая избушка, Старые шахты, Красная казарма и т. п., называвшиеся другими случайными людьми; прошли облавами добровольцев и бойскаутов всю эту глухую, заброшенную местность, истоптали рудник вдоль и поперек – и ничего не нашли.
Тел членов царской семьи не оказалось нигде, хотя товарищ прокурора Магницкий, резюмируя работу, произведенную им с офицерами, чистосердечно признался: «Обследованная нами местность – не обследована, ибо если мне зададут вопрос, где царские трупы, я прямо скажу: я их не нашел, но они в урочище Четыре Брата». На офицеров эта неудача произвела удручающее впечатление.
Дух упал, явилось сомнение.
А раз явилось сомнение, то легче стали восприниматься разные версии.
Ошибались в версиях – теряли окончательно почву, недоверие возрастало до страшных размеров. Много времени спустя это недоверие еще продолжало чувствоваться. Были случаи, когда дело уже перешло в руки Соколова, вызовет он кого-либо из офицеров из числа тех, которые участвовали в расследовании или близко соприкасались с ним в Екатеринбурге, и слышно, как перед дачей показаний они перешептываются между собой: «Можно ли ему говорить все, что мы видели?»
Неудача, постигшая офицеров в розыске по царскому делу, породила неустойчивость в них мысли, мнений. Явилась какая-то растерянность, разбитость, которую использовали те, кому было выгодно затемнять дело, затруднять истине возможность выхода наружу. Офицерство раскололось и стало на путь рассмотрения различных версий, лишь бы выйти из того тупика неразгаданной тайны, куда привело их исчезновение тел августейшей семьи. Те, кто продолжал твердо верить в совершившееся злое дело, молчали, скрывались от разговоров и расспросов. Другие, не сознавая этого, ухватились за легенду, подсказанную Янкелем Свердловым: погиб царь, а всю семью пощадили и вывезли сами большевики в надежное место. Третьи, вернувшись в отчаянии к германофильским симпатиям, носились с идеей спасения царской семьи немцами и даже называли людей, будто видевших того или другого из членов царской семьи в том или другом пункте того или другого иностранного государства.
Во всяком случае, непосредственное и исключительное участие строевого офицерства в самостоятельных розысках по царскому делу окончилось почти одновременно с неудачей, постигшей его в урочище Ганиной ямы, и в дальнейшем строевые офицеры ушли все в свою прямую, боевую работу против тех, кто нанес им новое национальное оскорбление в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Военно-уголовный розыск
Одновременно с образованием офицерской комиссии полковника Шереховского начальник гарнизона генерал-майор Голицын приказал Екатеринбургскому военно-уголовному розыску приступить к обследованию агентурным путем вопроса об исчезновении из Ипатьевского дома царской семьи.
Военно-уголовный розыск был, в сущности, тем же военно-контрольным аппаратом, каковые установлены при нормальной организации армии при высших штабах и войсковых частях для борьбы со шпионажем в широком значении этого оружия войны. Но особые условия Гражданской войны и необходимость, кроме подвижных органов военного контроля, следующих с войсками, иметь и неподвижные аппараты такой работы в районах, очищавшихся от Красной армии и остававшихся в тылу войск, привели к созданию при военно-административных управлениях тыловых районов и в крупных центрах военно-контрольных органов, но соответственно преобразованных и примененных к условиям гражданской борьбы.
Эти органы, в отличие от военно-контрольных органов, состоявших при войсках армии, получили название военно-уголовного розыска.
Основные должности в военно-уголовном розыске заполнялись обыкновенно из состава чинов военного контроля штабов армий, корпусов и дивизий, а второстепенные и, главным образом, так называемые «агентурные» должности – пополнялись преимущественно из местных жителей, благожелательно настроенных к нам, и обыкновенно из числа лиц, имевших по своей прежней службе или деятельности какое-либо отношение к различным полицейским, охранным и сыскным управлениям и учреждениям губернских и уездных органов Министерства внутренних дел.
Такая постановка организации военно-уголовного розыска имела свои положительные и отрицательные стороны: благодаря привлечению в свои ряды лиц местного происхождения, военно-уголовный розыск получал почти всегда готовые агентурные сети на местах, что позволяло им довольно скоро и легко нападать на следы скрывавшихся различных местных советских деятелей и извлекать таковых из обслуживаемого района. Но зато эти органы восприняли полностью все отрицательные стороны былых полицейских и сыскных учреждений МВД с тем показателем, что лучших и опытнейших былых работников сыска и агентуры на местах уже почти не оставалось, так как они были или изъяты еще в период керенщины, а затем и при большевиках, или бежали куда-нибудь очень далеко от мест своей прежней деятельности. На месте в большинстве удерживался элемент низшего разряда.
Большой недостаток сотрудников чувствовался и для соответственного руководства разыскным делом: ограниченность количества специалистов этой трудной работы, требовавшей не только исключительной опытности и талантливости, но и положительной честности, ощущалась еще и в мирное время, и в период германской войны; а теперь после годовалой разрушительной и развращающей работы нашей революции, при спешности организации тыла сибирских войск, военным властям приходилось пользоваться или простым бывшим строевым офицером, или теми, кто сами себя предлагали, как бывших опытных работников по этой части.
Характернейшей чертой военно-уголовного розыска являлась его нетерпимость к какой-либо разыскной работе другого органа или учреждения и громадная самоуверенность как в личных талантах по сыску, так и в том, что только то истинно, что добывают и исследуют его управления. Это приводило прежде всего к отсутствию координации работы между уголовным розыском и обслуживавшимся им следственным производством прокуратуры; в то время, как следствие пыталось направить исследование дела по одному наметившемуся руслу, по одному разработанному плану, уголовный розыск кидается самостоятельно совершенно в другую сторону, по другим путям, не помогая следствию, а загромождая его различными агентурными версиями, зачастую до абсурдности фантастичными.
Уголовный розыск задерживает массу лиц, допрашивает их, производит обыски, выемки, но весь этот обширный материал поступает к следственной власти только через один, два, а то и три месяца, в течение коих некоторые из свидетелей успевают или умереть, или исчезнуть, миновав руки прокуратуры и следователей.
Черпая данные из различных, зачастую даже неизвестных агентурных сведений, уголовный розыск сплошь да рядом бросается на разработку тех данных, тех версий, в том направлении и той окраске, которые желательны творцам преступлений, ими же создаются и внушаются розыску через своих контрагентов. Не проверив первоисточника, не установив, можно ли доверять данным агентурным сведениям, кто такой человек, давший сведения, откуда он и кем был прежде, уголовный розыск только потому, что данная новость добыта им, ухватывается за нее, как за базу своей работы, и прежде всего направляет свою деятельность так, чтобы доказать другим истину полученных указаний. На этом пути натыкается, конечно, и на подосланных свидетелей, и на подброшенные теми же агентами вещественные доказательства, и весь розыск идет по ложным путям, желательным для преступной стороны и вносящим страшную запутанность, затемнение и сумбур в следственное производство судебного следователя.
Таков был общий характер работы военно-уголовного розыска первого периода следственного производства по делу об убийстве царской семьи, и от такого общего характера не отличалась и деятельность Екатеринбургского военно-уголовного розыска.
Не ради критики приведена здесь общая характеристика деятельности органов военно-уголовного розыска, по тогдашнему времени лучших все равно создать было не из чего, но ради того, чтобы ярче обрисовалась картина постановки следствия и условия, сопровождавшие его ход в этот важнейший период работы. С момента совершения убийства времени протекло немного; идя по свежим реальным следам преступления, уголовный розыск имел возможность очень скоро привести следствие к вполне определенным данным, если бы не страдал, как и другие подобные ему организации, указанными выше общими недостатками сыска, чересчур большим самомнением и легким увлечением отрицательными влияниями.
К этому необходимо добавить, что военно-уголовный розыск состоял в подчинении военным властям, почему имел возможность обособляться в своей деятельности от прокурорского надзора, находя заступничество в военном начальстве. А так как положение на театре военных действий подчиняло военному начальству и все гражданские учреждения, к которым, по политическим причинам революционного периода, военные власти относились вообще с предубеждением, то сплошь и рядом органы военно-уголовного розыска получали от своего начальства указания действовать втайне от прокурорского надзора.
Эти положения и создали ту сложную и запутанную обстановку для следственного производства по царскому делу, распутать которую оказалось возможным только постановкой следствия и расследования в совершенно исключительные условия, обусловливаемые положением о сенаторских расследованиях.
* * *В первое время по взятии Екатеринбурга работа Екатеринбургского военно-уголовного розыска протекала по совершенно нормальным и естественным путям, соответствовавшим вполне всей совокупности обстоятельств, обнаруженных из осмотра дома Ипатьева и района шахт.
В один из первых же дней был задержан и допрошен доктор Николай Арсеньевич Сакович, служивший при большевиках областным комиссаром здравоохранения и входивший в состав президиума областного Совдепа. Несмотря на крайне поверхностный и краткий допрос этого крупного представителя советской власти, его рассказ дал весьма существенные первоначальные данные как исходные для правильного выбора путей дальнейшего направления разыскного дела.
Сакович показал:
– во-первых, что еще при перевозке царской семьи из Тобольска в Екатеринбург членами президиума обсуждался вопрос об уничтожении царской семьи путем устройства крушения поезда или провокаций охраны поезда;
– во-вторых, что по этому вопросу были указания из центра, из Москвы;
– в-третьих, что наибольшим значением в президиуме пользовались евреи Сафаров, Войков, Исаак Голощекин, Краснов, Поляков, Хотимский, латыш Тупетул и русские Белобородов и Сыромолотов;
– в-четвертых, что Исаак Голощекин и Янкель Юровский, будучи «циниками до мозга костей, могли, не считаясь ни с чем, совершить любую гнусность»;
– в-пятых, что «по отношению к бывшему царю и его семье у большевиков-руководителей было заметно какое-то беспокойство», характер которого он не брался определить. Сакович полагал, что расстрел бывшего царя – ложь, «потому что на объявлениях об убийстве бывшего государя была подпись Свердлова, а ее не могло быть, потому что связи с Москвой до 16–17 июля уже задолго не было».
Но это последнее было уже двойной ложью самого Саковича, потому что в руках уголовного розыска находились эти самые объявления, и подписаны они были вовсе не Янкелем Свердловым, а президиумом Облсовета, и во-вторых, в помещении бывшего Совдепа и на телеграфе были захвачены телеграммы, даты на которых указывали, что никакого перерыва связи с Москвой ни в эти дни, ни в последующие не было.
К сожалению, Сакович, как один из участников преступления, ибо он участвовал в заседаниях президиума, решавшего вопросы о судьбе царской семьи, не был использован в полной мере, и уголовный розыск не поинтересовался выяснить, какие основания понудили Саковича связать объявления о расстреле с именем Янкеля Свердлова. Янкель Свердлов – это крупная фигура центральной советской власти, председатель Президиума ЦИК, и Сакович, называя его, как бы определенно свидетельствовал, что такое дело, как расстрел бывшего царя, не могло быть исполнено без участия центральной власти или, во всяком случае, без участия всесильных главарей этой власти в Москве. Промах военно-уголовного розыска очень серьезный, исправить который удалось только долгое время спустя, подойдя к разрешению вопроса новыми изысканиями в области документальных данных, ибо Сакович умер, так и не допрошенный следователями.
Затем уголовному розыску удалось установить почти полностью список лиц, состоявших в охране Дома особого назначения, равно и данные о том, из кого именно состояла охрана и каким порядком она формировалась. Распоряжения по этой части исходили от Исаака Голощекина, областного военного комиссара, а приводились в исполнение комиссарами Сергеем Витальевичем Мрачковским и Александром Дмитриевичем Авдеевым. Первый набирал добровольцев на Сысертском заводе, а второй – на фабрике Злоказова; оба этих завода считались наиболее большевистскими.
Выяснилось, что охрана разделялась на внешнюю и внутреннюю: внутреннюю первоначально составляли 10 добровольцев с Злоказовской фабрики, во главе с помощником коменданта Дома, рабочим той же фабрики Александром Мошкиным, но позже, числа 4–5 июля, всю эту внутреннюю охрану уволили, а Мошкина даже арестовали и заменили какими-то не екатеринбургскими, а прибывшими из Петрограда или Москвы латышами. Мошкина и злоказовских рабочих уволили будто бы за кражу золотого крестика у царской семьи.
Тогда же и комендант дома, упомянутый выше Александр Авдеев, был заменен комиссаром Чрезвычайной следственной комиссии Янкелем Хаимовичем Юровским (по-сибирски – Юровских).
Вместе с тем уголовному розыску в первые же дни работы удалось разыскать и задержать целый ряд лиц, имевших родственные или дружеские отношения с рабочими, служившими в охране. Была задержана Мария Медведева, жена начальника охраны Павла Медведева; Евдокия Старкова – мать Ивана Старкова, одного из охранников; Анна Тимофеева – знакомая охранника Леонида Лабушева; Феликс Якубцов – приятель охранника Ивана Колотова; и, наконец, Михаил Летемин – охранник команды, пробывший в ее составе от начала ее формирования до последнего дня ее существования, 22 июля, когда она была распущена Павлом Медведевым.
У всех этих лиц и еще у Поповых и Сафоновых, родственников охранников, были произведены обыски и найдены разные вещи, принадлежавшие бывшему государю и членам его семьи. Большая часть вещей оказалась у Летемина и Медведевой; перечень этих вещей был помещен выше, а затем: у Тимофеевой нашли брюки государя императора, военные, гвардейского стрелкового полка, с надписью рукой царя внутри левого кармана: «4 августа 1900 года, возоб. 8 октября 1916 года». Брюки эти были принесены Тимофеевой для сохранения Леонидом Лабушевым. У Стрекотиных нашлось пасхальное яйцо с императорским гербом и золотое кольцо с вынутым камнем; у Поповых – бинокль хороший; у Старковых – деревянный полированный ящик, 3 вилки, 2 пасхальные свечи, термометр, полфлакона духов, 4 больших батистовых носовых платка, 1 чулок, овальный подпилок, 5 рамочек для фотографических карточек, металлический брелок и серебряный брелок-свисток.
Все найденные и отобранные вещи были предъявлены уголовным розыском Чемодурову, который их и признал.
Найденная у Летемина собачка принадлежала наследнику цесаревичу, ее звали Джой; образ и кресты-ковчежцы с мощами святителей тоже принадлежали наследнику цесаревичу, у которого они висели всегда в голове кровати. Ему же принадлежали игрушки и стекла волшебного фонаря. Зонтик и фотографический панорамный аппарат принадлежали государыне императрице, причем зонтик ее величество хранила как подарок ее матери еще в юношеские годы государыни. Ей же и великим княжнам принадлежали собственноручной работы вязаные скатерти и салфетки, а пуговки с бриллиантиками были великих княжон.
Вещи, найденные у Медведевой, кроме серебряных колечек, принадлежали доктору Боткину, а колечки – великим княжнам и хранились ими как память о посещении костромских монастырей во время празднования 300-летия Дома Романовых.
Отобранные у Старковых носовые платки, с вырезанными метками, принадлежали великим княжнам, а все прочие вещи – наследнику цесаревичу.
Относительно найденных у Тимофеевой брюк Чемодуров заметил, что в отношении одежды государь император отличался особой аккуратностью и бережливостью, носил вещи подолгу и сам отмечал где-либо на подкладке или внутри, когда предметы одежды обновлялись.
При расспросах упомянутых лиц, задержанных в разных местах и в разное время, Поповы отозвались незнанием чего-либо о судьбе царской семьи, а мать Ивана Старкова добавила, что, по словам ее сына, их, охранников из рабочих, в ночь с 16 на 17 июля не пустили в караул, но что ночью ее сын видел, как из ворот дома Ипатьева выехали два очень больших автомобиля и ушли куда-то по Вознесенскому проспекту в сторону Главной улицы (это могло быть направление на деревню Коптяки).
Рассказы прочих задержанных совпадали в основном вопросе – что расстреляна вся царская семья и жившие с ней в Ипатьевском доме придворные и слуги, кроме мальчика Седнева. При этом Якубцев, со слов своего приятеля охранника Колотова, добавлял, что тела после расстрела были зарыты там же, в саду дома Ипатьева.
Но особой тождественностью описания событий, происшедших в ночь с 16 на 17 июля, отличались показания Марии Медведевой и Михаила Летемина. Первая рассказывала со слов своего мужа, начальника охраны, просто, откровенно и ясно то, что он рассказал ей, когда 18 июля она приехала к нему в дом Попова, по его телефонному вызову, а Летемин, утверждавший, что он жил с женой на частной квартире и пришел на службу только утром 17 июля, передавал о событиях ночи со слов охранника Андрея Стрекотина, стоявшего в ту ночь на посту у окна комнаты нижнего этажа, где был пулемет и откуда тот видел, что делалось в комнате, где были обнаружены следы крови и пуль.
Вот что рассказала Мария Медведева:
«…Оставшись наедине со мной, муж объяснил мне, что несколько дней тому назад царь, царица, наследник, все княжны и слуги царской семьи, всего 12 человек, были убиты. Подробности убийства в этот раз мой муж не передавал. Вечером муж отправил команду на вокзал, а на другой день мы с ним уехали домой, так как начальство уволило его в отпуск на два дня, для раздачи денег семьям красногвардейцев.
Уже дома Павел Медведев рассказал мне несколько подробнее о том, как было совершено убийство царя и его семьи. По словам Павла, ночью, часа в два, ему велено было разбудить государя, государыню, всех царских детей, приближенных и слуг; Павел послал для этого Константина Степановича Добрынина. Все разбуженные встали, умылись, оделись и были сведены в нижний этаж, где их поместили в одну комнату; здесь прочитали им бумагу, в которой было сказано, что „революция погибает, должны погибнуть и вы“. После этого в них начали стрелять и всех до одного убили; стрелял и мой муж; он говорил, что из сысертских принимал участие в расстреле только он один, остальные же были не „наши“, то есть не нашего завода, а русские или не русские, этого мне объяснено не было. Стрелявших было тоже 12 человек; стреляли не из револьверов, так, по крайней мере, объяснял мне муж. Убитых увезли далеко в лес и бросили в ямы какие-то, но в какой местности, ничего этого муж мне не объяснил, а я не спросила».
Так просто говорила Медведева. Из тона, которым она рассказывала, было совершенно ясно, что она передает только то, что ей счел нужным рассказать муж; чего он ей не говорил, она не знает и ни о чем сама его не спрашивала. Так же просто предъявила она и вещи, оставленные ей мужем, когда он через два дня уехал в город, и с тех пор о нем никаких сведений не было. Она знала многих из сысертских рабочих, участвовавших вместе с мужем в охране Дома особого назначения, и всех, кого вспомнила, так же спокойно назвала. И делала, и рассказывала все так откровенно и охотно не потому, что боялась за свою участь и выдачей других хотела облегчить свое собственное положение; этого совершенно не чувствовалось. Говорила так просто потому, что знала; совершенно так же она себя держала и впоследствии, когда ее допрашивали следственные власти. Не потеряла она этого свойства и тогда, когда 7 месяцев спустя, после занятия Перми, был задержан и допрашивался ее муж; она и тогда, ему в глаза, подтвердила, что он сам ей сказал, что тоже стрелял, а чего не говорил, того она и не знает, и никогда сама не спрашивает мужа о служебных делах.