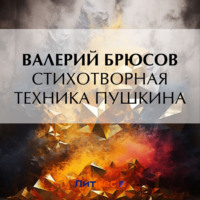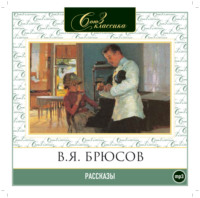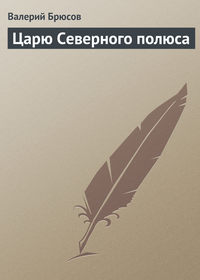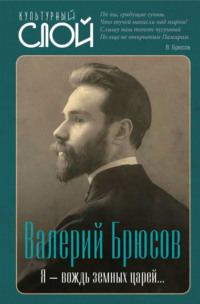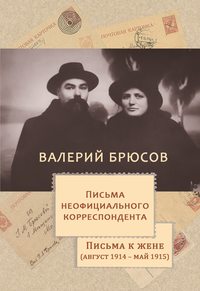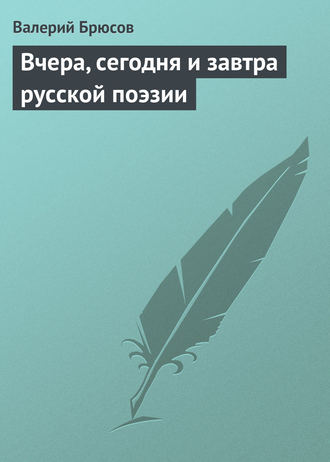 полная версия
полная версияВчера, сегодня и завтра русской поэзии
Но плодотворность идей Хлебникова не ограничивалась только успехами его личного творчества и неуспехом писаний Крученых и др.: не в такой резкой форме, как сочинение стихов на зауми, эти идеи проникали все вообще творчество футуристов. Важно было осознать вообще, что язык – это материал поэзии, и что этот материал может и должен быть отработан поэтами соответственно задачам художественного творчества. Это и есть основная мысль русского футуризма; в проведении ее в практику поэзии и заключается основная заслуга наших футуристов; успехи этой работы и суть главные (формальные) достижения нашей поэзии за пятилетие 1917–1922 гг. Участвовали в этом движении не только заумники, но, сознательно или бессознательно, все поэты, примыкавшие к новаторским течениям: все они, угадывая требования эпохи и подчиняясь, может быть, импульсу Хлебникова (как то свидетельствуют сами главари футуризма), устремили свое художественное внимание на язык. Прежнее отношение к языку, как к чему-то извне данному, во что можно вносить лишь мелкие, частичные поправки (отношение классической поэзии), было отвергнуто. Работа над «формой» в поэзии стала не только исканием адекватных размеров, удачного строя строфы, выразительной рифмы и осторожного привлечения малоизвестных речений (отношение символистов), но в то же время, и даже раньше всего, – работой над языком, над словарем, морфологией и синтаксисом.
В центре деятельности футуристов 17–22 гг. стояли два поэта – В. Маяковский и Б. Пастернак, и оба в широкой мере выполняли этот завет своей школы. Но оба они – поэты настолько значительные, что выходят из рамок одной школы; значение их деятельности нельзя ограничить выполнением одной, хотя бы и важной, задачи момента; самое творчество их не умещается в гранях одного пятилетия.
Маяковский сразу, еще в начале 10-х годов, показал себя поэтом большого темперамента и смелых мазков. Он был один из тех, кто к Октябрю отнесся не как к внешней силе, прежде всего мешающей самой работе поэта (отношение очень многих, несмотря на стихи, где революция воспевается), но как к великому явлению жизни, с которым он сам органически связан. Уже с эпохи войны появляется ряд стихотворений Маяковского, откликающихся на современность, потом радостно приветствующих революцию: «Война и Мир», «Революция», «Наш марш» («Все, сочиненное Вл. Маяковским», 1919 г.), «Мистерия Буфф» (переделано для театра в 1920 г.), «150 000 000» (1921 г.), поэма об интернационалах (1922 г.) и переходящих иногда в настоящие агитки («Маяковский издевается», 1922 г.), рядом с чем, впрочем, продолжается творчество и на иные темы (см. «Все», затем «Люблю», 1922 г. и др.). Стихи Маяковского принадлежат к числу прекраснейших явлений пятилетия: их бодрый слог и смелая речь были живительным ферментом нашей поэзии. В своих позднейших стихотворениях Маяковский усвоил себе манеру плаката – резкие линии, кричащие краски. При этом он нашел и свою технику – особое видоизменение «свободного стиха», не порывающего резко с метром, но дающего простор ритмическому разнообразию; он же был одним из творцов новой рифмы, ныне входящей в общее употребление, как более отвечающей свойствам русского языка, нежели рифма классическая (Пушкина и др.). Наконец, в сфере языка Маяковский, с умеренностью применяя принципы Хлебникова, нашел речь, соединяющую простоту со своеобразием, фельетонную хлесткость с художественным тактом. Недостатки поэзии Маяковского в том, что эта последняя хлесткость иногда преобладает, что простота порой срывается в прозаизмы, что иные рифмы слишком искусственны, что некоторые размеры лишь типографски отличены от самых заурядных ямбов и хореев, что плакатная манера не лишена грубости, и т. д., главное же в том, что и у Маяковского уже начинает складываться шаблон. Во всяком случае, опасности для него еще впереди, а годы 17–22 были расцветом его деятельности. Влияние Маяковского на молодую поэзию было очень сильно, но, к сожалению, ему чаще подражали по внешности, без его силы, без его одушевления, без меткости его речи и богатства его словаря. (Ныне выходит собрание стихов Маяковского, «13 лет работы», изд. «Маф», М., 1922 г.)
Гораздо менее на виду была деятельность Б. Пастернака. Кроме стихов, иногда появлявшихся в немногочисленных журналах и альманахах революционного периода, он за последние годы дал лишь одну-единственную книгу: «Сестра моя – жизнь», 1922 г.; это – собрание стихов, написанных в 1917 и 1918 гг., немногие – позже, в 1919–1920 г. Несмотря на то, влияние Пастернака на молодежь, пишущую стихи, было едва ли не равно влиянию Маяковского. Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихотворным произведениям (исключая те, что запрещались царской цензурой) приблизительно с эпохи Пушкина: они распространялись в списках. Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии. Стихи Б. Пастернака сразу производят впечатление чего-то свежего, еще небывалого: у него всегда своеобразный подход к теме, способность все видеть по-своему.
В области формы – у него богатство ритмов, большею частью влитых в традиционные размеры, и та же новая рифма, создателем которой он может быть назван даже еще в большей степени, чем Маяковский. В творчестве языка Пастернак также осторожен, но, редко, сравнительно, прибегая к творчеству слов, он смел в новых синтаксических построениях и в оригинальности словоподчинений. Насколько Маяковский, по настроениям своей поэзии, близок к поэтам пролетарским, настолько Пастернак, несомненно, – поэт-интеллигент. Частью это приводит к широте в его творческом захвате: история и современность, данные науки и злобы дня, книги и жизнь – все, на равных правах, входит в стихи Пастернака, располагаясь, по особенному свойству его мироощущения, как бы на одной плоскости. Но частью та же чрезмерная интеллигентность обескровливает поэзию Пастернака, толкает его к антипоэтической рефлексии, превращает иные стихи в философские рассуждения, подменяет иногда живые образы остроумными парадоксами. У Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, но его стихи, может быть, без ведома автора, пропитаны духом современности; психология Пастернака не заимствована из старых книг; она выражает существо самого поэта и могла сложиться только в условиях нашей жизни.
К Б. Пастернаку, по характеру поэзии, близко подходит Н. Асеев. Он начинал как один из «крестьянских» поэтов, потом испытал явное влияние идей Хлебникова («Леторей», 1915 г., «Оксана», 1916 г.); годы революции провел на Дальнем Востоке («Бомба», Владивосток, 1921 г.); лишь за последнее время вернулся в семью московских футуристов («Стальной соловей», изд. «Маф», 1922 г.). Таким образом, вопрос о непосредственном влиянии Пастернака, почти ничего не печатавшего между 1917 и 1921 гг., не должен ставиться. Между тем Асеев пришел почти к тем же формам и приемам, как автор «Сестры», и многое из сказанного о Пастернаке применимо к Асееву. Впрочем, Асеев свободен от интеллигентской рефлексии, напротив, – у него есть здоровое мировосприятие человека, близкого к природе. Природа, входящая в поэзию Пастернака чаще всего как «сад» или «балкон», вливается в стихи Асеева как «степи» и, «леса». Революция воспринята Асеевым непосредственно, и он останется в истории литературы, как один из ярких ее певцов. Наконец, работа над языком проведена у Асеева смелее, чем у Пастернака, особенно в области словаря (пример: перевертень из прекрасной поэмы «Собачий поезд», картины езды на собаках на севере).
Четвертый поэт, который должен быть назван в центре футуризма, это – Сергей Третьяков. Он прикасался к движению заумников и еще не преодолел крайностей этого направления. Его стихи в меньшей степени – осуществления, чем у трех, названных раньше, и еще во многом – лишь обещания. Все же Третьяков уже дает законченные образцы того, чего может достичь футуризм на своих путях, и тоже, по-видимому, вне непосредственного влияния его главарей (сборник «Ясныш», Чита, 1922 г.). Народный, порою почти мужицкий говор оживлен в стихах Третьякова художественной работой над стихией слова. Лучшие его произведения подсказаны революцией и бытом новой России, РСФСР и Д-ВР. Такова, напр., прекрасная диалогическая поэма «Рыд материнский».
Таким образом, дело футуризма за 1917 – 22 гг. выразилось преимущественно в деятельности Хлебникова, Маяковского, Пастернака, Асеева, Третьякова. Но из них только Маяковский все время стоял на виду; Хлебникова едва знали вне круга товарищей; Пастернаком интересовались только пишущие стихи; Асеев и Третьяков жили вдали от центров, на дальневосточной окраине. Поэтому внимание критики и читателей концентрировалось вокруг другой группы, правда, вышедшей из футуризма, но резко себя ему противополагавшей. Мы говорим об имажинистах, вся деятельность которых заключена в грани от 17 года, – самого начала этого течения, – по 22 год, когда это течение ослабло, неизвестно, с надеждой ли возродиться. К тому же имажинисты были из числа тех, которым и в бескнижные годы – 1919, 1920 – удавалось печатать и распространять не только сборники своих стихов, но даже и книги о себе («Конница бурь», I и II, 1920 г.; Львов-Рогачевский, «Имажинизм», 1921 г.; И. Грузинов, «Имажинизма основное», 1921 г.; В. Шершеневича, «2×2= 5», 1921 г. и др.).
Имажинисты издали немало «манифестов»; многое в этих программах повторено из того, что говорили футуристы, или скопировано с того, что они делали. Это естественно, так как «глава школы», Вадим Шершеневич, сам долго стоял в рядах футуризма. Оставляя в стороне эти повторения и отбрасывая как намеренные парадоксы (напр., требование, чтобы стихи были таковы, что все равно читать их с начала к концу или с конца к началу), так, разные технические мелочи, можно получить главную мысль имажинистов: что поэзия есть искусство образов и ничего другого. Мысль эта была заимствована из теорий Потебни (ныне оспариваемых в науке), но имажинистами истолкована по-своему и доведена до крайности. Во-первых, это положение резко разграничивало имажинизм от футуризма: футуристы брали за основу слово, имажинисты – образ. Во-вторых, имажинисты делали вывод: если сущность поэзии – образ, то для нее второстепенное дело не только звуковой строй (напр., звучность стихов, их «музыка»), не только ритмичность и т. п., но и идейность. «Музыка – композиторам, идеи – философам, политические вопросы – экономистам, – говорили имажинисты, – а поэтам – образы и только образы». Разумеется, на практике осуществить такое разделение было невозможно, но теоретически имажинисты на нем настаивали. Понятно, что, чуждаясь вообще идейности, имажинисты отвергали и связь поэзии с общественной жизнью, в частности – отрицали поэзию, как выразительницу революционных идей. Соответствуй теории имажинистов их стихи, они были бы в нашу эпоху обречены на быстрое забвение. На деле только один В. Шершеневич, основатель «школы» и главный ее теоретик, более или менее держался своих программ. Однако и он в своих стихах («Коробейники счастья», К., 1920 г.; «Лошадь как лошадь», 3-я книга лирики, М., 1920 г.; «Кооперативы веселья», М., 1922 г.) постоянно, даже чаще, чем то желательно в поэзии, оперировал с отвлеченными идеями. Не избег этого и второй из вождей движения, Анатолий Мариенгоф («Стихами чванствую», М., 1920 г.; «Развратничает с вдохновением», М., 1921 г.; «Разочарование», М., 1922 г. и др.). Оба все-таки следуют основному принципу имажинизма в том смысле, что стремятся в каждую строку вместить как можно больше зрительных образов, по большей части очень натянутых и вычурных; стих Шершеневича – неравномерный «дольник», стих Мариенгофа – «свободный», но резче отграниченный от метризма, чем у Маяковского, местами переходящий в явную прозу. Третий видный имажинист, С. Есенин, начинал как «крестьянский» ноэт. От этого периода он сохранил гораздо больше непосредственности чувства, нежели его сотоварищи; в книгах Есенина («Радуница», 1915 г., «Голубень», 1918 г., «Преображение», 1921 г., «Трерядница», 1921 г., «Исповедь хулигана», 1921 г., «Пугачев», 1922 г., и др.) есть прекрасные стихотворения, напр., те, где он скорбит о гибели деревни, сокрушаемой «железным гостем» (фабрика), и те, где поэт остается чистым лириком настроений; у Есенина четкие образы, певучий стих и легкие, хотя однообразные, ритмы; но все эти достоинства противоречат имажинизму, и его влияние было скорее вредным для поэзии Есенина. Из других имажинистов можно отметить А. Кусикова («Поэма поэм», 1920 г., «Коевангелиеран», 1920 г., «В никуда», 1921 г. и др.), тоже слабо связанного со школой и интересного там, где он говорит о родном Кавказе. По какому-то недоразумению, в списках имажинистов значится Рюрик Ивнев («Солнце во гробе», 1921 г.), стоящий на. полпути от акмеизма к футуризму. Другие имажинисты, как Ив. Грузинов, Н. Эрдман и т. д., вряд ли заслуживают отдельной оценки.
В общем имажинисты в некоторых направлениях сделали ту же работу, как и футуристы: разрабатывали новую рифму, новые формы свободного стиха и т. д.; кое в чем продолжали и разработку языка, хотя много осторожнее. Что до самостоятельного вклада в литературу, то им можно признать лишь одно положение, выставленное имажинистами позднее: необходимость поэта «организовывать» строй образов. Поэты других направлений (в том числе и футуристы) не обращали, сознательно, внимания на единство образов в одном произведении. Имажинисты поставили как принцип, что все образы должны быть подчинены основному стилю стихотворения. Эта мысль, по существу правильная, составляет самое ценное из того, что дали имажинисты, – притом уже не только в теории, но и на практике, в своих стихах. Между прочим, эта мысль была усвоена многими из молодых пролетарских поэтов и ныне входит в их созидающуюся поэтику.
Рядом с имажинизмом существовало другое течение, отделившееся от основного футуристического, – поэты «Центрофуги»; но за пятилетие, 1917 – 22 гг., они почти не выступали печатно. Роль теоретика здесь исполнял С. Бобров («Алмазные леса» и «Лира лир», 1917 г.), в стихах которого футуристичность причудливо смешивается с традициями пушкинской плеяды. Наиболее оригинальным представителем группы является И. Аксенов («Эйфелия», не издано). Программа группы весьма неопределенна, и в альманахах «Центрофуги» участвовали и ныне обещают участие многие футуристы, на первом месте Пастернак и Асеев, затем К. Большаков (начинавший талантливо, но за годы 1917 – 22 почти не появлявшийся в печати), Р. Ивнев и др.
Не входя ни в какие группы, отдельные поэты явно примыкают к футуризму, в том числе С. Буданцев («Пароходы в вечности», не издано), Вяч. Ковалевский («Плач», 1920 г.), Н. Бенар («Корабль отплывающий», 1922 г.), М. Зенкевич («Пашня танков», 1921 г.), Б. Зунделович («Стихотворения», 1922 г.), А. Ильина-Сеферянц («Земляная литургия», 1922 г.), В. Парнах («Самум», Париж, 1919 г., «Карабкается акробат», Париж, 1922 г.), В. Шишов («Слепорожденная вертикаль», 1920 г.), Т. Мачтет (сборник «Голгофа строф», Рязань, 1920 г., где также стихи Д. Туманного, В. Кисина, Я. Апушкина и др.), Н. Берендгоф (в своих неизд. стихах) и др. Любопытно, что стихи, появляющиеся в петроградских изданиях, гораздо слабее отмечены влиянием футуризма, чем в Москве: до некоторой степени оно сказывается у К. Вагинова («Островитяне», 1922 г.).
Как бы отдельную группу образуют несколько молодых поэтов, иногда именующихся «неофутуристами», стремящихся использовать все технические завоевания футуризма, но строить свою поэзию на основе или реализма, как Адалис (журнал «Современник», 1922 г., «Первое предупреждение», не издано), поэт с большим техническим мастерством и несомненной индивидуальностью, или – романтизма, как Б. Лапин («Молниянин», 1922 г.), дебютант, сумевший не быть подражателем, и др.
Этими именами, конечно, не исчерпывается круг поэтов, ближе или издали подходящих к общеноваторскому движению. Таковы еще выступавшие под флагом экспрессионизма Т. Левит («Флейты Ваграна», 1921 г.), И. Соколов («Бунт экспрессионистов», 1921 г., и др.), С. Спасский («Экспрессионисты», 1921 г.) и др.; ничевоки (сборник «Вам», 1920 г.), среди которых единственное запоминающееся имя Рюрик Рок («От Р. Рока чтения», 1921 г.); презентисты (Дир-Туманный), ктематики и др., частью действительные, частью только номинально существующие группы.
IV
Всей этой армии стихотворцев, от крайних правых неоклассиков до крайних левых неофутуристов, молодая пролетарская поэзия может противопоставить небольшой, сравнительно, отряд. В сборнике «Трибуна Пролеткульта» (1922 г.), где собраны образцы творчества пролетарских поэтов за пять последних лет, включено всего 35 имен, причем иными из этих авторов написано вообще очень немногое. К этому перечню, достаточно полному, можно прибавить лишь 8 – 10 поэтов, если оставаться в кругу тех, кто проявил себя более или менее определенно. Разумеется, вообще писавших стихи, печатавшиеся в изданиях Пролеткультов, было, как мы сейчас увидим, много больше (хотя в целом все же значительно меньше, чем поэтов других направлений), но далеко не все могли оставить хоть маленький след в литературе. Это вполне естественно. Для нашей интеллигенции сочинение стихов было обычным упражнением еще в салонах XVIII века; мода на него лишь немного ослабла в 60 и 70 годах, но с конца прошлого века опять чуть ли не каждый гимназист пробовал стать поэтом. Для современной молодежи из рабочего класса писать стихи – дело новое; за него берется не каждый, как потому, что вокруг нет традиции стихописания, так и потому, что относится к литературе бережнее (мы не говорим о полусознательных элементах, хотя бы из рабочего класса, откуда в редакции тоже приходят рукописи со стихами то под Некрасова, то под Апухтина, то под Бальмонта, – кто случайно попался в местной библиотеке). Вступление нашего пролетариата в литературу совершается медленно. Но то, чему суждено существовать долго, вырастает всегда неспешно.
Собственно говоря, какмы уже говорили, пролетарская поэзия возникла у нас с того самого времени, как начал создаваться в России рабочий класс. Но первоначально то были разрозненные выступления отдельных поэтов, как Ф. Шкулев, М. Савин, М. Розенфельд, А. Гмырев (см. В. Фриче, «Пролетарская поэзия», 1920 г.), также Е. Нечаев, впервые выступивший еще в 1892 г. и продолжающий писать поныне, С. Шмонин, стихи которого, 1904–1910 гг., напечатаны лишь в 1920 г. («Красное Знамя», Н.-Новг., 1920 г), и др.; далее следовал ряд поэтов, выдвинутых революцией 1905 года, из которых наиболее талантливым художником был Е. Тарасов. Но только перед Европейской войной начали выступать те авторы, которые затем, после Октября, приняли участие в организации «пролетарской поэзии», как самостоятельного литературного движения, первыми – Самобытник (А. Маширов), В. Кириллов и М. Герасимов. После Октября к ним быстро присоединился ряд других. Началась и организация этих поэтов в двух направлениях, во-первых, вокруг определенных центров, Пролеткультов, Пролетарского отдела Лито Наркомпроса, журнала «Кузница» и т. д., вплоть до Ассоциации пролетарских поэтов; во-вторых, вокруг определенных художественных принципов, что из объединения сначала только идеологического вело к объединению технически-литературному. Пролетарские поэты становились временно литературной «школой», в ряду других школ.
Сравнительно с другими группами, пролетарские поэты стояли в годы 17–22 в условиях более благоприятных. Пролеткульты довольно охотно издавали сборники стихотворений за все это пятилетие. Пролеткульты же, время от времени, выпускали альманахи, где помещались и стихи. Таковы сборники Пролеткультов – Петроградского («Литературный альманах», 1917 г.), Московского («Завод огнекрылый», 1920 г.), Саратовского («Взмахи», 1919 г.), Рыбинского, Ярославского, Тверского; также сборники других организаций – «Пролетарский сборник», 1918 г. (изд. ВЦИК), «В буре и пламени» (Ярославль, 1918 г.) и др. Существовали и литературные журналы, выходившие более или менее последовательно: «Грядущее» (Петерб. Пролеткульта), «Горн» (Московского), «Гудки» (то же), «Горнило» (Саратовского), «Грядущая культура» (Тамбовского), «Зарево заводов» (Самарского), «Красное утро» (Орловского), «Пламя» (Петроградского Совета, под ред. А. В. Луначарского), «Творчество» (Московского Совета), «Красный огонек», «Красный пахарь», «Раненый красноармеец» и др.; с 1920 г. стала издаваться «Кузница» (сначала при Лито Наркомпроса). Оценкой стихов пролетарских поэтов внимательно занимался журнал «Пролетарская культура» (с 1918 г.), позже еще «Книга и революция» (с 1920 г.).
Выше напоминалось, что в поэзии может существовать только оформленное содержание, т. е. только идея, воплощенная в ей свойственную форму, что без соответственной формы идея в поэзии не жива и не действенна. Для тех идей, выразителями которых желали стать пролетарские поэты, готовой формы не было; старые формы поэзии классической, поэзии реалистов и поэзии символистов были не по мерке, ни этих идей, ни современных переживаний. Приходилось создавать новые формы, частью выполнять ту же работу, какую делали футуристы, поскольку надо было выразить современность, частью видоизменять эту технику, поскольку содержание должно было быть иным. Так как вся эта грандиозная задача ложилась на круг писателей, не имевших навыка в такой технической работе, к тому же горевших желанием скорее сказать свое слово, то она и не могла решаться с обдуманной равномерностью. Годы после Октября были для пролетарских поэтов не такое время, чтобы спокойно обсуждать вопросы техники и поэтики: надо было говорить, кричать, надо было стать собою.
Поэтому с самого начала в рядах пролетарских поэтов означилось два течения: одни довольствовались случайной, какой бы то ни было формой, только бы попытаться высказать свои чувства и мысли; другие настойчиво добивались соответствия внешности своих стихов с тем новым миром, который они в них втесняли, и, чтобы обрести это соответствие, то сами творили новые формы, новые метры, новый язык, то готовы были брать новую технику у кого бы то ни было, из поэтов других школ, у символистов, у футуристов, даже у имажинистов. Только за самое последнее время это хаотическое смешение разных форм, разных техник стало уступать место сознательному отношению к вопросу, и лишь теперь, на наших глазах, вырабатывается поэтика пролетарской поэзии.
Что до основного содержания стихов, то оно было как бы подсказано термином «пролетарская поэзия». Разумеется, отдельные поэты касались и общих, обычных в поэзии тем: природа, город, смерть, любовь; но наибольшее число стихотворений написано на темы, непосредственно связанные с ролью пролетариата в истории: это – гимны революции и ее вождям, картина восстания, изображения фабрик и заводов и тому под. В этом тоже сказалась ранняя стадия развития; справедливо указывалось (Ф. Калинин), что основным мотивом пролетарского творчества должна стать вообще психология передового рабочего, а она может быть выявлена в подходе к любой теме. К тому же темы, большею частью, брались слишком отвлеченно; изображалось, напр., не определенное «восстание»: Октябрь 1917 г. в Москве или другом городе, но восстание вообще, или «победа труда», опять-таки вне эпохи, вне страны. Только за последнее время замечается в пролетарской поэзии поворот к здоровому реализму, стремление, после того, как все желанные слова, наконец, выкрикнуты, конкретизировать свои темы.
Из пролетарских поэтов первого призыва наиболее самостоятелен по форме Илья Садофьев, который не напрасно озаглавил свою книгу «Динамо-стихи» (1918 г.); в его поэзии, действительно, есть нечто динамическое и нечто от динамо-машины. Садофьев – поэт сильных восторженных чувств, великого революционного пафоса, для которых он нашел соответственное выражение; характерны для него – длинные стихи «из двух кол», со смелыми нарушениями метра, и крепкий язык, полный громких слов, не чуждающийся новообразований («фонтанно», «дирижаблит» и т. под.). Лучшие стихи Садофьева, как «Изменили пролетарской революции», «Факел победы», «К завтра» и др., едва ли не наибольшее приближение к своему идеалу, какое пока имеет пролетарская поэзия.
Самостоятельность формы и речи есть и в стихах А. Гастева, собранных в книге тоже с характерным заглавием «Поэзия рабочего удара» (1919 г.). Внешним образцом этим стихам служили поэмы Уота Уитмена, но лучшие организованы по плану машины, где все – для одной цели, где не должно быть ничего лишнего. Гастеву особенно удались те стихи, где поэт как бы сливается с жизнью машин, становится одной из их необходимых частей. Справедливо Ф. Калинин назвал эти стихи «выкованными из железа». К сожалению, последние годы Гастев не выступает с новыми стихами в печати.
Гораздо менее оригинален А. Поморский («Цветы восстаний», 1919 г.). Его стих часто неуверен, необработан, в нем много старокнижных шаблонов, давно сданных в архив условностей. Это сильно обесцвечивает поэзию Поморского. Пролетарская критика признала его «поэтом своей стихийной души», но это справедливо лишь по отношению к части стихотворений Поморского; в других он умеет от частного случая, от случайно увиденной картины, которую рисует отчетливыми чертами, перейти к общей идее – метод чисто символический. Хороши у Поморского, в таком толковании, изображения города, к которому он подходит, конечно, с точки зрения нового мировоззрения; хороши «Похороны трибуна», написанные почти верхарновским стихом.