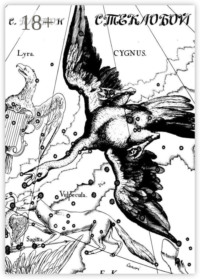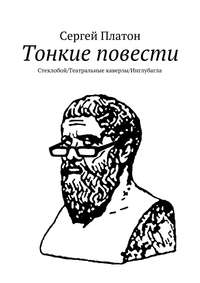Полная версия
Инглубагла

Инглубагла
повесть
Сергей Платон
© Сергей Платон, 2015
© Андрей Жукаев, иллюстрации, 2015
Корректор Кирилл Азерный
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
1
Инглу… что?
Язык сломаешь. Нет такого слова в русской речи, ни в одном словаре его не найти, ни в одном поисковике ничего даже близко похожего не отыщется. Зато биографии нескольких довольно милых и вполне себе реально существующих людей, обыкновенных обитателей одной незабываемой московской коммуналки, это нереальное слово существенно откорректировало.
Инглубагла. Потрясающее слово, сильное и завораживающее. В какие-то ну прямо колдовские оттенки окрашенное. Занозило оно мою память. Какое крепкое словцо: услышишь и поёжишься, до чего странный набор драматичных, неприветливых созвучий!
Звучал чудной неологизм откуда-то изнутри не менее странного существа, из уст, по-сути, домашнего животного. Из бывшей старушки по имени Хася Пинхусовна. И ничего необычного тут нет, долго живущие люди часто перерождаются в животных. А Хася жила уже неестественно долго, но всё не умирала, годами напролет бродя в жилищно-коммунальном пространстве из угла в угол, и бубня свою «инглубаглу» протяжным трубным звуком. Тяжким звуком, на вой похожим. Он ею не произносился, а именно выстанывался без участия губ, выдыхался в самые неожиданные моменты.
2
Хася Пинхусовна походила на зонтик; этакий тряпичный зонтик с деревянной ручкой, оставленный в прихожей лет сто тому назад.
Естественно, душевнобольная и почти слепая, безжалостно измученная временем, но не добитая, а замумифицированная живьем, старуха с утра и до утра завывала неимоверно низким голосом, неизвестно каким образом рождающемся в ее тряпично-деревянном, давно засохшем тельце. Тема завываний – какие-то «люди» пополам с «инглубаглой». Именно эти два слова чаще всего повторялись ею на все лады.
Хлипкое сообщество моих малознакомых приятелей, молодых арбатских коммуналов, относительно беззаботно населяющее семикомнатную квартиру, с какой-то стати присвоило однажды своему домашнему существу более понятное имя – Евгения Петровна.

Хорошие ребята. Каждый ежедневно оставлял на задрипанном хасином столике в кухне какую-нибудь еду. Этим она и питалась. Из кухонного крана тонкой струйкой всегда текла вода, поскольку существо умело пить только оттуда, а вот открывать или закрывать воду уже не умело. Совершенно непонятно, когда же оно спало, да и спало ли вообще.
Днем и ночью Хася бродила в потрясающих пространствах коммунального коридора.
Вот это площади! Если сложить все оставшиеся метры комнат, огромной кухни, вместительных кладовок и двух туалетов – едва ли наберется половина!
Коридорище действительно напоминал городскую площадь. К потолочному небу тянулись живописные фасады разнокалиберных дверей и полуразвалившихся шкафов, стройную перспективу прорезали узкие переулки и магистральные кухонно-туалетные проспекты. Экстерьер дополнялся естественными для любого города архитектурными излишествами: вечными рядами пыльных шкафчиков, крохотных полочек, эмалированных тазов и цинковых корыт. Не обошлось и без памятников. Один из углов занимали большие напольные часы с остановившимся маятником, а в утренних потемках можно было наткнуться на карликовую мраморную колонну или на бамбуковую этажерку с древним телефоном, либо же споткнуться об останки большого кованого сундука.
В комнатах располагались дома беспрописочного народа, а проще говоря – временное жилье хорошего, совсем еще недавно провинциального, но теперь-то уже навсегда мАсковского, богемно-лоботрясного племени.
Эти тоже затесались в память. Хоть виделись мы редко, а не забыть их никогда. Вот они – видны, как миленькие. Все семеро, как на ладони, на своей просторной жилплощади.
В тихой заводи у первого туалета жила лирическая пара попугайчиков-неразлучников. Оба студенты-дворники, и оба Сашки. Упрямая способность этих друзей быть постоянно вместе – и на дворницком участке, и в киношке, и в кратком путешествии на родину, и в продолжительном турне по ночникам – вызывало плохо скрываемое раздражение Антона, главы вполне здоровой соседской семьи из модельного мира.
Яркая парикмахерша Нина и маленький закройщик Антон громко именовали себя стилистом и модельером соответственно. И псевдонимы выдумали для себя не менее блистательные: дизайнеры моды Алекс и Сандра – только так их теперь называли афиши, журналы и флаеры модных показов, концертов и шоупрограмм. Стильная такая пара, как говорится, модная на всю голову. С ними проживали двухлетний сын Ян и небольшая собачка Аня, которые на площадь практически не выходили. Так что большинство жильцов их никогда не видели, зато уж слышали ежедневно.
Перманентный, состоящий из ругани, лая, детского плача или смеха, радиотеатр обычно немного стихал только после внушительных ударов в Антонову стену со стороны Парамошки.
Александр Ильич Парамонов, закончив журфак, вот уже четыре года активно писал нетленные материалы в разнообразные печатные СМИ и столько же времени собирался издать всё это добро одной книжкой. Был он очень крупный, крепкий, кислоулыбающийся, и жил одиноко. Видимо, поэтому почти каждую ночь к нему шли нескончаемые караваны приятелей, звякающих и дзинькающих бутылками. Тут-то и наступало время реванша модельеровой семьи. Создавалось впечатление, что даже собачка Аня и ребеночек Ян на каждый шорох из Парамошиной комнаты барабанят в стену своими лапками или головами. В ответ барабанным трелям всегда раздавалась песня. Что-то протяжное и очень красивое.
Зычный Парамошин вокал обычно прерывался пронзительным визгом «Хватит!» еще одного дворника, Тетьшуры.
На самом деле, Шуре не исполнилось и тридцати, но выглядела она истинной тетей. Солнечно-рыжая, круглая и здоровая, как свежая морковь, Тетьшура целыми днями беззастенчиво хлебосольничала на кухне. Это было ее законное место, она жила здесь дольше всех и завела свои порядки. Так что домочадцы и, уж тем более, их случайные гости, попросту не могли пройти мимо ее извечных водочек, ликерчиков, чайков, конфеток, пряничков и яичек. Готовилась она к подобным трапезам обстоятельно и громко. Студенты по десять раз бегали в магазин то за бутылочкой, то за фаршем, то за мукой или маргарином. Только вот кофе она не любила, жженым сахаром называла.
Одного шуриного визга хватало, и над площадью зависала сизая ночная тишина.
Ответственный техник-смотритель жилищно-коммунальной конторы, Саша Гаврилыч, в квартире появлялся изредка, а вот в разговорах его колоритное имя слышалось нередко. Это вполне естественно – именно благодаря доброй воле (а скорей всего – беззаветной любви Гаврилыча к денежным знакам) уже не первый год вся компания здесь и существовала.
Был в коммуналке еще один примечательный жилец. Две самые большие смежные комнаты принадлежали Славомиру Борисовичу. Трудно представить, чтобы этот вальяжный и франтоватый бухгалтер какого-то крупного ЗАО или ООО вдруг поселился бы в своих владениях. А вот бывал он в них часто. Забежит минут на десять, помолчит, поводит носом по замкам, посверлит глазами проживающих – и нет его. Все были убеждены в том, что если кто здесь и прописан, так это он. Стало быть, ждет удобного момента оттяпать квартирку. Вот и ходит, контролирует.
В общем, жила-была типичная столичная коммуналка конца двадцатого века со своими юродивыми и благородными жителями, с домашними питомцами, с простыми и трудными умниками, с тихонями и живчиками, с постоянными, временными и сумасшедшими проживающими.
Притерпелись, привыкли, и жили они сравнительно мирно. Сжились.
Сердобольные соседи давно уже бросили напрасные попытки Евгению Петровну разговорить, всё равно же ничего не понимает. Как получалось, кормили-поили, и не особенно замечали. О том, например, куда какает, даже не задумывались. К ней тоже привыкли. Она стала таким же предметом домашнего интерьера, как этажерка, колонна, соседи или сундук. Об нее уже не запинались.
3
С чего я вдруг решил, что это – сон?
Я в этом жил, я это видел, чувствовал, как наяву, я это помню. А если сон, то почему он снился сразу многим, как и мне? Всем семерым уж точно снился. Каждый из них, каждый по-своему, но рассказал же мне тихонечко или проговорился случайно о том, как оно могло бы быть, по их мнению, как бы могло сложиться всё иначе – так, как положено, как подобает, как всем наверняка хотелось бы.
Какая-то коммунальная галлюцинация с нами случилась. Я довольно хорошо узнал «семь Сашек», и нам приснились одни сны.
Вот этот, первый, самый памятный и частый:
– Тук-тук… тук…
За окошком, в тумане, ворочался утренний мир, недопроснувшийся, недопроявленный. Из-под белого облака теплого одеяла торчали нос и глазки маленького человека. Утренний человек не спал. Был ли он мальчиком или девочкой, пока было неважно. Проснулся просто детеныш, юное существо. Как новогодняя игрушка, переложенная ватой, лежал и зыркал в окружающий мир. А мир был совершенно белым: комната, постель, шкафы, туман, чехлы на стульях, скатерть и, конечно же, молочное стекло окна.
Теплый белый мир.
И ничего не стоило вскочить из койки, чтобы вскарабкаться на белый широченный подоконник. Легкотня! Он и вскочил, предварительно развернув скатавшуюся за ночь фланелевую белую рубашку, оттолкнувшись от горячей батареи, ухватившись маленькой ладошкой за медную ручку оконной фрамуги.
На сцену подоконника шагнул человек. Скорее, сущность, существо, идея человека. И что же он увидел?
По площади шли кони. На каждом – всадник в белом шлеме. Белые наездники улыбались, некоторые махали рукой. Существо размахивало ручками в ответ, и тоже улыбалось. Они друг другу очень нравились, им было славно повидаться. А между ними плыл туман, стекающий по площади к реке, выбеляющий фасады домов, растворяющий весеннюю зелень деревьев, обволакивающий коням копыта.
Эти белые витязи проходили тут каждое утро. Существу было важно их не проспать, хотелось снова слышать звук «тук-тук, тук», махать рукой, и улыбаться улыбкам. Поэтому-то человечек часто просыпался засветло, и терпеливо ждал рассвета, ждал тумана…
4
Немыслимая редкость: поздним утром Арбат затопило туманом. Это зимой-то!
И без того заснеженная панорама нестройных крыш, будто нарисованная перламутром на оконном стекле, здорово преображала унылую кухню. Затрапезное пространство светилось по-новогоднему празднично, туман в него как бы просачивался сквозь окно, смешиваясь с легкой дымкой немного пригоревшего подсолнечного масла и светлыми клубами аппетитного пара над плитой.
Раскрасневшаяся Тетьшура колдовала над горячим духовым шкафом. Никогда она не принадлежала к разряду аккуратных хозяек, процесс приготовления любой еды всегда был связан у нее с оглушительнейшим громыханием кухонной утварью и нередкими матерными комментариями в адрес какой-нибудь непослушной сковородки. В дверном проеме стояла сосредоточенная Хася Пинхусовна, внимательно прислушиваясь к каждому звуку.
– Из кружечки надо пить, из кружечки. Понимаешь? – крикнула Тетьшура из-под руки в сторону Хаси.
– Святые люди, – протяжно провыла старуха.
– Конечно святые, как же не святые. Полон дом святых людей! Ты бы, Хася, все-таки из кружки бы пила. В кране вода сырая, грязная. Слышишь меня? Хася Пинхусовна… Хася… – не унималась Шура, выйдя в центр кухни под лампочку, – Евгения Петровна…
– Люди, – сразу же отозвалась старушонка и быстро шагнула на звук, – люди, люди… инглубагла…
– Сама ты, Хася, инглубагла! – расхохоталась Шура, вприпрыжку возвратившись к духовке, в которой что-то зашипело, заскворчало и лопнуло.

Присеменив под лампочку, Хася остановилась, обескураженно вращая головой по сторонам.
– Люди? – удивилась она.
Хотела было двинуться дальше, но в коридоре что-то заскреблось, и она развернулась. Пока плелась по коридорищу обратно, открылась входная дверь. У вешалки стряхивал перчатками снег с куртки улыбающийся Саня. Немного повозившись с непослушным замком, он, наконец, разделся и разулся, впрыгнул в тапки, но пошел не в свою комнату, а к этажерке с телефоном. По дороге ловко увернулся от идущей навстречу Хаси, и взялся судорожно накручивать телефонный диск, пробуя куда-то дозвониться.
– О, Санька приперся. Перся, перся, и приперся, – весело пропела Шура, – Санюнька!
– Чо?
– Чо-чо… Это тебя так в театральном твоем что ли учат? Чо. На этой самой, как ее? На сценоречи.
– На сценречи.
– У… Во как… А завтракать вас там учат? Носился утром, – трусы-парусы. Так ведь и не поел.
– Ел, – вклинилась в разговор Хася, почти уже дошедшая до двери, но опять остановившаяся в искреннем недоумении.
– Не парусы, а паруса, – улыбнулся Саня.
– Ага, труса-паруса. Чуть Тетьшуру с ног не свалил. Кстати говоря, паруса бы твои постирать бы пора, да пуговку бы пришить в одном месте, а то всё самое интересное видать…
– Тетьшур!
– А чо Тетьшур? – ухмыльнулась Шура и чистенько пропела: – У таракана усики, у мальчугана трусики…

Подобные диалоги всегда ее забавляли, широкая физиономия сияла удовольствием и как бы говорила в любом слове, в каждой фразе «радуюсь я разговорам с вами до чрезвычайности». Беспардонно оглядев стеснительного соседа со всех сторон, она продолжила:
– Вы с Александром хоть и чистенькие, а все равно замызгиваетесь. Девок-то не завели еще. Или завели? Да если и заведете, толку-то. Девка – это вам не мамка. Я же вижу. Стираетесь вон раз в месяц. Обедал хоть, голодайка?
– Да, – сказал Саня.
– Да, – добавила Хася.
– Не ври тетеньке! Что ел?
Саня пожал плечами, бросил трубку и поднял руки вверх.
– Чипсы, – озорно хмыкнул он.
– Псы… Псы… – отчего-то растревожилась Хася. Но ее никто не услышал, потому что ее никто особенно и не слушал, вернее, не прислушивался никогда.
– Да-да-да. Это, блин, еда. Сплошной кислотно-щелочной баланс. В смысле кислота и щелочь, – укоризненно качала головой Тетьшура.
– Кислотно-щелочной баланс – это про жвачку.
– А про чипсы чо?
– А про чипсы – хруст.
– Ох, и хрустанешся ты когда-нибудь нафиг с голоду. Погляди чем хрустеть-то надо. Хаська вон уже три штуки слупила, чо думаешь, она тут трется? Унюхала. Я ей третий в руки все норовила впихнуть. Не берет. Хныкает, недотрога, блин. Кстати, на Евгению-то Петровну она лучше реагирует, на Хасю совсем не отзывается.
– Вот и зовите ее Евгения Петровна, – нехотя отозвался Саня, берясь за телефон.
– А я и зову. А она и приходит. А тебя вот зову, а ты не приходишь.
– Да не хочу я.
– Санюнька, – настойчиво звала Шура, – все равно же не дозвонился, иди-к сюда.
– Да не хочу я.
– Иди сюда, худая жизнь!
Пришлось ему все же опять бросить трубку и подойти к столу в кухне.
– Чо?
– Опять чо? Ешь давай, вот чо!
– Да не хочу я.
– Это потому что отвык уже. На-ка, расстегайчика возьми. Тётька тебе фигню не подсунет, лопай давай, худая жизнь!
– Спасибо, – выдавил Саня набитым ртом. Жевал как обычно удивительно вкусную еду и как обычно радовался. Упирался-то, получается, лишь для порядка.
– Рюмочку дать? – вкрадчиво поинтересовалась Шура.
– Нет. У меня зачет сегодня.
– Ну-ну. А я ваш зачет сдала уже утром. Учитесь, блин, студенты. Участок аж блестит весь. Гаврилыч просто забалдел, давно его таким довольным не видала. Хорошо, что снега нет особенного, только туман, завтра можем и поспать. Щас борщец буду делать, через полчасика тащи тарелку. Александр-то придет?
– Спасибо.
– Чо спасибо? – не поняла Тетьшура.
– Ну, участок…
– Это вы мне спасибо в зарплатку скажете. Саша Гаврилыч, между прочим, премию вам грозился выписать – так я ее заберу?
– Конечно.
– Александр-то придет?
– Вечером.
– Ладно. Вечером, так вечером. Вы давайте бельишко готовьте, вечером в машинку запихаем.
– Ладно, – крикнул Саня, дожевывая уже на ходу, по пути к себе в комнату элегантно обогнув Хасю, плетущуюся по коридору в сторону кухни.
Тетьшура убрала тарелку, налила себе рюмку тархуновой настойки, и звонко запела:
– Я зеленый огуречик. Не боюсь широких речек. Не боюсь высоких крыш. А боюсь я только мышь.
Выдохнула, выпила и, отступив на полшага назад, пропуская входящую на кухню Хасю, быстро ушла в свою комнату.
– Слушай, ты, огуречик, нельзя ли потише? – не выходя из-за двери, крикнула ей Нина.
– Чо-чо-чо? – так же, не выходя из комнаты, прокричала Шура.
Дальнейшие крики соседок едва перекрывали возникшие тут же детский плач и собачий лай. Такой вот оригинальный у них получился заочный скандал, виртуальная ругань онлайн, так сказать.
– В плечо! У меня ребенок спит. Может, хватит орать?
– До чего же подлое быдло ты, Нинка! Разоралась на пустом месте!
– Сама ты быдло!
– Подлое быдло и есть!
– Хорош уже орать, ребенок спит!
– Ага, слышу я, как он у тебя спит. Сама разоралась и разбудила. Дура!
– Я тебе щас покажу, кто здесь дура!
– Заткнись, идиотка!
Понурая Хася Пинхусовна стояла посреди коридора, тревожно прислушиваясь и озираясь. В паузе попыталась было уйти, но очередной грубый крик ее испугал, остановил.
– Псы… Инглубагла… – протянула старуха, недовольно поморщившись.
5
Все то же самое я видел там же и тогда же, с теми же, но совершенно по-другому. Где тут реальность, где тут сон – не ведаю. Однако это тоже было, никакой это не бред, а некая очень даже реалистичная небыль.
Дались мне эти сны…
«Чтоб весело смеяться, не нужен порошок, а нужно, чтоб сказка кончалась хорошо!» – пел позитивный дядька в финале любимого фильма из нашего общего пионерского детства, ни сном ни духом не ведая, как скоро и разительно перелицуется, преобразится время.
И мы не знали, как легко сотрутся алые лозунги с крыш и купеческих фасадов наших городов, совсем не по-революционному, без боя, уступая место многокрасочным рекламам, как быстро пропадет из жизни всё советское – казалось бы, незыблемое, вечное. Как некогда пропало всё купеческое. Кто ж мог тогда предположить, как скоренько совковые опрелости, будто январским снегом, присыплются спасительным заморским порошком и прочими галлюциногенными снадобьями, мгновенно изменяющими сознание, круто развлекающе-отвлекающими, лихо улучшающими настроение подлого люда, опять дождавшегося вожделенных изменений.
Московские фасады поменялись махом, но за многими из них пока доживали свой век коммунальные квартиры. Об этом-то «периоде дожития» и речь.
Я, как и Тетьшура, тогда лишь хмуро смотрел по сторонам, наблюдал за переменами и, в общем-то, только безвольно удивлялся им, мурлыкая под нос наши детские песни, хоть как-то помогающие сохранить равновесие. Родину штормило, коммуналки дохли, а мы, их жители, всем коллективом мечтали о другой реальности. Мы упрямо грезили о лучшей жизни, видели ее как наяву, безо всяких порошков.
Помню, как домашнее существо, стоявшее посреди площади, тихо исчезло.
И тут пространство начало преображаться. Вслед за исчезновением старухи выцветшие, разорванные во многих местах, полосатые обои с цветочным орнаментом вдруг стали целыми и яркими, с них испарились ржавые разводы. В прихожей, будто бы из-под земли, внезапно выросла деревянная напольная вешалка. Пропали тазы и корыта, побелел потолок. На стенах появились картины и кашпо, маятник в часах начал раскачиваться. Возникли милые кресла, диванчики, белые венские стулья в чехлах и круглый стол под белой скатертью. Покосившиеся шкафчики и полки выровнялись, плавно опустилась хрустальная люстра. Буквально на глазах пространство как бы заросло большим количеством цветочной зелени и сделалось по-старомодному уютным. Сквозь окна вкрадчиво пробились ласковые солнечные блики.
В какие-то считанные мгновения на белом свете возникла прекрасная бело-зеленая гостиная с желтыми стенами, слегка подсвеченная с кухни по-зимнему желто-яичным солнцем. В ней-то, как правило, и случались события моих реальных снов.
6
Тем временем Тетьшура, распаляясь, верещала через дверь:
– Нет, ну а все-таки, кто здесь дура-то? А?
Но Нина молчала, что бесило еще больше. Шура выдержала паузу, выглянула в коридор, и смело пошла на штурм соседской двери с песней:
– Я зеленый огуречик. Не боюсь широких речек. Не боюсь высоких крыш. А боюсь я только мышь.
Подойдя, она хорошенечко пнула ненавистную нинкину дверь. Кто знает, чем бы завершился этот коммунальный бой, когда б не распахнулась дверь входная.
На пороге возился с непослушным замком Саня, очень худенький, очень разноцветно одетый и очень молодой человек. С диким усилием закрыв дверь, он быстро сбросил куртку, прыгнул в тапки, но пошел не к себе в комнату, а к этажерке с телефоном.
– О… Санька приперся… Перся, перся, и приперся. А мы тут с Нинкой скандалим, – звонко спела Шура в его сторону, улыбаясь во весь рот, – Санюнька… Санюнька!
– Чо?
– Чо-чо… Это тебя так в театральном твоем что ли учат? Чо. На этой самой, как ее? На сценоречи.
– На сценречи.
– У… Во как… А завтракать вас там учат? Носился утром, – трусы-парусы. Так ведь и не поел.
– Не парусы, а паруса, – смутился Саня.
– Ага, труса-паруса. Чуть Тетьшуру с ног не свалил. Кстати говоря, паруса бы твои постирать бы пора, да пуговку бы пришить в одном месте, а то все самое интересное видать…
– Тетьшур!
– А чо Тетьшур? – опять запела Шура, – У таракана усики, у мальчугана трусики. Вы с Александром хоть и чистенькие, а всё равно замызгиваетесь. Девок-то не завели еще. Или завели? Да если и заведете – толку-то. Девка – это вам не мамка. Я же вижу. Стираетесь вон раз в месяц. Обедал хоть, голодайка?
– Да, – хмуро ответил Саня, продолжая накручивать телефонный диск, судорожно пробуя куда-то дозвониться. Разговор ему явно мешал.
– Не ври тетеньке!..
Тут открылась еще одна дверь (во всех коммуналках двери открываются-закрываются безостановочно и круглосуточно). Выпустив из своей комнаты проблеск солнечного света, мягко ступая по скрипящему паркету, на площадь вышла Евгения Петровна, аккуратная бабушка в стареньком опрятном платье и белом фартуке. Улыбка на ее лице была такой же сдержанной и аккуратной, такой же чистоплотной, как она сама. Поставив на стол жестяной поднос с мельхиоровым кофейным прибором, старушка церемонно присела на краешек венского стула.
– Здравствуйте, Саша, – прозвучала в композиции разговора чистая низкая нота глубокого грудного голоса, какой бывает только у старух.
– Здравствуйте, Евгения Петровна.
– А ведь Шура права. При ваших нагрузках вам действительно нужно хорошо завтракать. Шура нам сегодня изумительные расстегаи приготовила. А поскольку кофе и расстегаи – несколько купеческое сочетание вкусов, давайте-ка, я вам с Шурочкой чайку заварю.
– Спасибо, но я не хочу.
– Это потому, что отвык уже. А мы тебя и спрашивать не станем. Садись и ешь, худая жизнь. На-ка, расстегайчика возьми, – проговорила Шура, старательно выискивая плавные и чопорные интонации в собственном голосе.
– Поешьте, Саша, поешьте.
– Поешь уже, худая жизнь!
Обе сидели за накрытым столом, уютно сложив ручки-лодочки на передники, улыбались и призывно кивали, поглаживая взглядами фигурку голодайки. Саня был так худ, что у любого нормального человека первым делом возникало желание не только хорошенечко беднягу накормить, но еще и «завернуть с собой». Пришлось ему бросить трубку, покорно усесться к столу и взяться за еду.
– Спасибо.
7
«Дверь в доме дверью никогда не называли, только – двери. Сиятельные, основательные двери с биографией! Вот так примерно я о вас и напишу. Как же вы, родные, красивы! Двери, да. Высокие, тяжелые, вечные двери, – думал Парамошка, записывая фразу шариковой ручкой в маленький блокнот».
Его толстые пальцы, не выпуская авторучку, чесали голый затылок со следами неоднократных подобных росчерков, и выводили на бумаге еще одну гладкую строчку: «Резные замковые ворота, а не дверь».
Прищурившийся наблюдатель сидел на лестничных ступенях, снаружи оглядывая двустворчатую прелесть. На самом деле все эти многозначительные красоты были видны только ему.
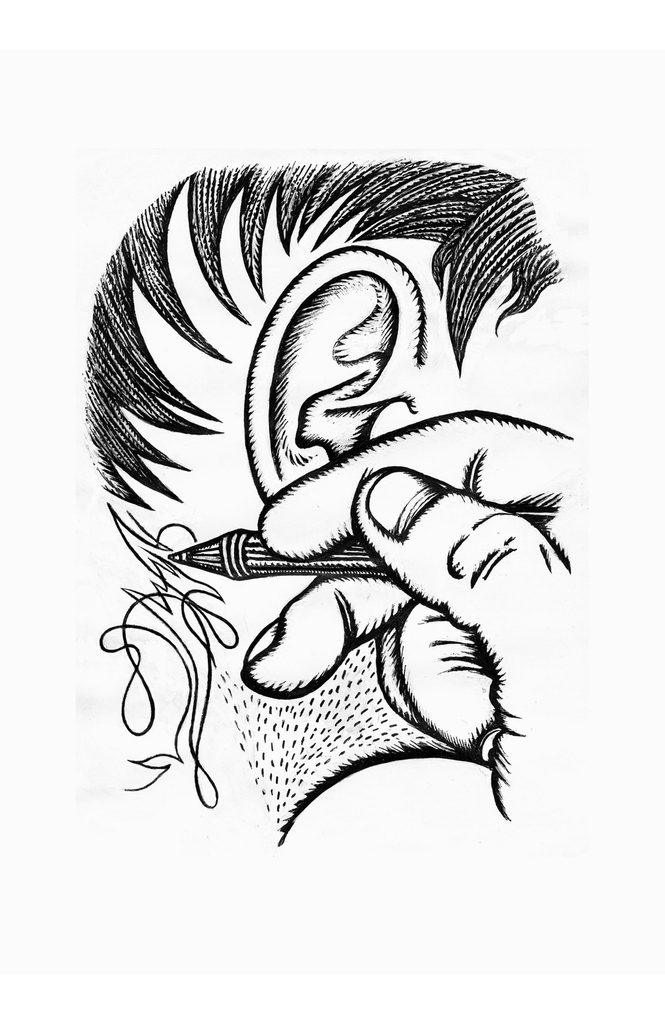
И впрямь затейливые, по всей вероятности когда-то очень живописные, рельефы створок, фигурные планки, филёнки, резные наличники и широкое обрамление лепниной, начисто сглаживались слоями несчетных побелок и масляной краски. На разных уровнях в тяжелом полотне были просверлены отверстия для глазков. Что удивительно, глазки-то были, но они были густо закрашены краской. Похоже, за ненадобностью. То здесь, то там торчало несколько явно не родных ручек, и точно так же, на различных уровнях, были врезаны разнообразные замки. Обе створки поблескивали десятком замочных скважин и уключин в хромовых накладках. Справа, на месте сколотой лепнины, топорщился нестройный рядок из кнопок электрических звонков. Единственная деталь сохранилась у двери от рождения – медный механический звонок «барашком», с полукруглой надписью истертым конгревом на корпусе – «прошу повернуть». Очевидно, что им до сих пор продолжали пользоваться по изначальному назначению. Хорошо отполированный от частых прикосновений, наружный бантик звонка сиял как золотой.