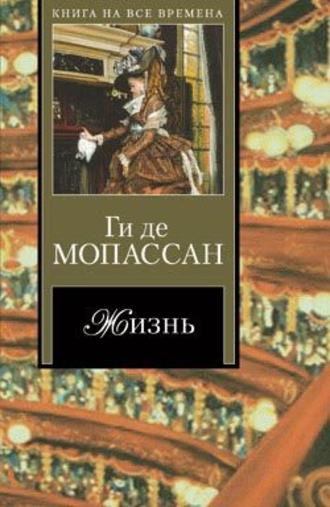
Полная версия
Сестры Рондоли

Ги де Мопассан
Сестры Рондоли
Жоржу де Порто-Puш
I
– Нет, – сказал Пьер Жувене, – я не знаю Италии; а между тем я дважды пытался туда попасть, но каждый раз застревал на границе, да так прочно, что невозможно было двинуться дальше. И все же эти две попытки оставили во мне чарующее представление о нравах этой прекрасной страны. Мне остается только познакомиться с городами, музеями и шедеврами искусства, которыми полон этот край. При первом же случае я вновь отважусь проникнуть на эту недоступную территорию.
Вам непонятно? Сейчас объясню.
В 1874 году мне захотелось посмотреть Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь. Это стремление овладело мною около середины июня, когда с буйными соками весны вливаются в душу пылкие желания странствий и любви.
Но я не любитель путешествовать. Перемена места, по-моему, бесполезна и утомительна. Ночи в поезде, сон, прерываемый вагонной тряской, вызывающей головную боль и ломоту во всем теле, чувство полной разбитости при пробуждении в этом движущемся ящике, ощущение немытой кожи, летучий сор, засыпающий вам глаза и волосы, угольная вонь, которую все время приходится глотать, мерзкие обеды на сквозняке вокзальных буфетов – все это, по-моему, отвратительное начало для увеселительной поездки.
За этим железнодорожным вступлением нас ожидает уныние гостиницы, большой гостиницы, переполненной людьми и вместе с тем такой пустынной, незнакомая, наводящая тоску комната, подозрительная постель! Своей постелью я дорожу больше всего. Она святая-святых нашей жизни. Ей отдаешь нагим свое усталое тело, и она возвращает ему силы и покоит его на белоснежных простынях, в тепле пуховых одеял.
В ней обретаем мы сладчайшие часы нашей жизни, часы любви и сна. Постель священна. Мы должны благоговеть перед ней, почитать ее и любить как самое лучшее, самое отрадное, что у нас есть на земле.
В гостинице я не могу приподнять простыню постели без дрожи отвращения. Кто лежал там в предыдущую ночь? Какие нечистоплотные, отвратительные люди спали на этих матрацах? И я думаю о всех тех омерзительных существах, с которыми сталкиваешься каждый день, о гадких горбунах, о прыщавых телах, о грязных руках, не говоря уж о ногах и всем прочем. Я думаю о людях, при встрече с которыми вам ударяет в нос тошнотворный запах чеснока или человеческого тела. Я думаю об уродах, о шелудивых, о поте больных, обо всей грязи и мерзости человеческой.
Все это побывало в постели, в которой я должен спать. И меня тошнит, как только я суну в нее ногу.
А обеды в гостинице, долгие обеды за табльдотом, среди несносных и нелепых людей; а ужасные одинокие обеды за столиком ресторана, при жалкой свечке, покрытой колпачком!
А унылые вечера в незнакомом городе! Что может быть грустнее ночи, спускающейся над чужим городом! Идешь куда глаза глядят, среди движения, среди сутолоки, поражающей и пугающей, как во сне. Смотришь на лица, которых никогда не видел и никогда больше не увидишь, слышишь голоса людей, разговаривающих о безразличных для тебя вещах на языке, которого ты даже не понимаешь. Испытываешь ужасное ощущение потерянности. Сердце сжимается, ноги слабеют, на душе гнет. Идешь, словно спасаешься от чего-то, идешь, лишь бы только не возвращаться в гостиницу, где чувствуешь себя еще более потерянным, потому что там ты как будто «дома», но ведь это «дом» любого, кто только заплатит за него, – и в конце концов падаешь на стул в каком-нибудь ярко освещенном кафе, позолота и огни которого угнетают в тысячу раз сильнее, чем уличный мрак. И сидя перед липкой кружкой пива, поданной суетливым официантом, чувствуешь себя столь отвратительно одиноким, что какое-то безумие охватывает тебя, желание бежать куда-нибудь, бежать куда угодно, чтобы только не быть здесь, не сидеть за этим мраморным столиком, под этой ослепительной люстрой. И тогда вдруг понимаешь, что ты всегда и везде одинок в этом мире и что привычные встречи в знакомых местах внушают лишь иллюзию человеческого братства. В такие часы заброшенности, мрачного одиночества в чужих городах мысль работает особенно независимо, ясно и глубоко. И тут одним взглядом охватываешь всю жизнь и видишь ее уже не сквозь розовые очки вечных надежд, а вне обмана нажитых привычек, без ожидания постоянно грезящегося счастья.
Только уехав далеко, сознаешь, до чего все близко, ограниченно и ничтожно; только в поисках неизведанного замечаешь, до чего все обыкновенно и мимолетно; только странствуя по земле, видишь, до чего тесен и однообразен мир.
О, эти угрюмые вечера, когда шагаешь наудачу по незнакомым улицам, – я испытал их! Этих вечеров я боюсь больше всего на свете.
Вот почему, ни за что не желая ехать в Италию один, я уговорил моего приятеля Поля Павильи отправиться вместе со мной.
Вы знаете Поля. Для него весь мир, вся жизнь – в женщине. Таких мужчин найдется немало. Жизнь кажется ему поэтической и яркой только благодаря присутствию женщин. На земле стоит жить лишь потому, что они живут на ней; солнце сияет и греет потому, что освещает их. Воздух приятно вдыхать потому, что он овевает их кожу и играет короткими завитками у них на висках. Луна восхитительна потому, что заставляет их мечтать и придает любви томную прелесть. Словом, вдохновляют и интересуют Поля только женщины; к ним обращены все его помыслы, все его стремления и надежды.
Один поэт заклеймил людей подобного рода:
Всех больше не терплю я томного поэта:Посмотрит на звезду – и имя шепчет он,А рядом с ним всегда Нинон или Лизетта, —Иначе пуст ему казался б небосклон.Такие чудаки стараются день целый,Чтоб пробудить любовь к природе у людей:То на зеленый холм прицепят чепчик белый,То юбку – к деревцам, растущим средь полей,Тот не поймет твоих, природа, песен чудных,Твоих, бессмертная, звенящих голосов,Кто не бродил один среди полей безлюдных,Кто грезит женщиной под шепоты лесов.[1]Когда я заговорил с Полем об Италии, он сначала решительно отказался уезжать из Парижа, но я стал расписывать ему разные дорожные приключения, сказал, что итальянки слывут очаровательными, пообещал доставить ему в Неаполе разные утонченные удовольствия благодаря имевшейся у меня рекомендации к некоему синьору Микелю Аморозо, знакомство с которым весьма полезно для иностранцев, – и он поддался искушению.
II
Мы сели в скорый поезд в четверг вечером 26 июня. В это время года никто не ездит на юг, и мы оказались в вагоне одни. Оба были в дурном настроении, досадуя на то, что покидаем Париж, недовольные, что навязали себе это путешествие, с сожалением вспоминая тенистый Марли, прекрасную Сену, отлогие берега, славные дни прогулок на лодке, славные вечера, когда так хорошо дремлется на берегу, пока спускается ночь.
Поль забился в уголок и, когда поезд тронулся, заявил:
– До чего же глупо пускаться в такое путешествие.
Так как он уже не мог изменить своего решения, я сказал в ответ:
– Не надо было ехать.
Он промолчал. Но вид у него был такой сердитый, что я чуть не расхохотался. Он, безусловно, похож на белку. Каждый из нас сохраняет под своим человеческим обликом черты какого-нибудь животного, нечто вроде признаков своей первоначальной породы. Сколько найдется людей с бульдожьей пастью, с козлиной, кроличьей, лисьей, лошадиной, бычьей головой! Поль – это белка, превратившаяся в человека. У него те же живые глазки, рыжая шерстка, острый носик, небольшое тельце, тоненькое, гибкое, проворное, да и во всем облике его есть какое-то сходство с этим зверьком. Как бы это сказать? Сходство в жестах, движениях и повадке, словно какое-то смутное воспоминание о прежнем существовании.
Наконец мы оба заснули, как спят в вагоне, – сном, который беспрестанно прерывается из-за шума, из-за судорог в руках или шее, из-за внезапных остановок поезда.
Мы проснулись, когда поезд шел уже вдоль берега Роны. И вскоре в окно ворвалось стрекотание кузнечиков, то непрерывное стрекотание, которое кажется голосом самой нагретой земли, песней Прованса; оно пахнуло нам в лицо, в грудь, в душу радостным ощущением юга, запахом раскаленной почвы, каменистой и солнечной родины приземистого оливкового дерева с его серо-зеленой листвой.
Когда поезд остановился у станции, железнодорожный служащий промчался вдоль состава, звонко выкрикивая: «Валанс!» – по-настоящему, подлинным местным говором, и это «Валанс», как перед тем скрежещущее стрекотание кузнечиков, снова заставило нас всем существом ощутить вкус Прованса.
До Марселя ничего нового.
В Марселе мы вышли позавтракать в буфете.
Когда мы вернулись в вагон, там сидела женщина.
Поль бросил мне восхищенный взгляд; машинальным движением он подкрутил свои короткие усики, поправил прическу, проведя пятерней, словно гребнем, по волосам, сильно растрепавшимся за ночь. Потом уселся против незнакомки.
Всякий раз, когда – в дороге или в обществе – передо мной появляется новое лицо, меня неотступно преследует желание разгадать, какая душа, какой ум, какой характер скрываются за этими чертами.
То была молодая женщина, совсем молоденькая и прехорошенькая, – без сомнения, дочь юга. У нее были чудесные глаза, великолепные черные волосы, волнистые, слегка вьющиеся, до того густые, жесткие и длинные, что казались тяжелыми, и стоило только взглянуть на них, чтобы сразу ощутить на голове их бремя. Одетая нарядно и по-южному несколько безвкусно, она казалась немного вульгарной. Правильные черты ее лица были лишены той грации, того легкого изящества, утонченности, которые присущи от рождения детям аристократии и являются как бы наследственным признаком более благородной крови.
Ее браслеты были слишком широки, чтобы их можно было принять за золотые, прозрачные камни в серьгах слишком велики для бриллиантов, да и во всем ее облике было что-то простонародное. Чувствовалось, что она, должно быть, привыкла говорить чересчур громко и по любому поводу кричать, буйно жестикулируя.
Поезд тронулся.
Она сидела неподвижно, устремив хмурый взгляд перед собой, с обиженным и раздосадованным видом. На нас она даже не взглянула.
Поль завел со мной беседу, высказывая вещи, рассчитанные на эффект, и стараясь привлечь ее внимание, блеснуть искусной фразой, ослепить красноречием, подобно торговцу, который выставляет отборный товар, чтобы разжечь покупателя.
Но она, казалось, ничего не слышала.
– Тулон! Остановка десять минут! Буфет! – прокричал кондуктор.
Поль сделал мне знак выйти и, как только мы очутились на платформе, спросил:
– Скажи, пожалуйста, кто она, по-твоему?
Я рассмеялся:
– Вот уж не знаю. Да мне это совершенно безразлично.
Он был очень возбужден.
– Она чертовски хорошенькая и свеженькая, плутовка! А какие глаза! Но вид у нее недовольный. У нее, должно быть, неприятности: она ни на что не обращает внимания.
Я проворчал:
– Зря стараешься.
Но он рассердился:
– Я вовсе не стараюсь, дорогой мой; я нахожу эту женщину очень хорошенькой, вот и все. А что, если заговорить с ней? Только о чем? Ну, посоветуй что-нибудь. Как ты думаешь, кто она такая?
– Право, не знаю. Вероятно, какая-нибудь актрисочка, которая возвращается в свою труппу после любовного похождения.
Он принял оскорбленный вид, точно я сказал ему что-то обидное, и возразил:
– Из чего ты это заключаешь? Я, наоборот, нахожу, что у нее вид вполне порядочной женщины.
Я ответил:
– Мой милый, посмотри на ее браслеты, серьги, на весь ее туалет. Я не удивлюсь, если она окажется танцовщицей или, может быть, даже цирковой наездницей, но скорее всего, пожалуй, танцовщицей. Во всей ее внешности есть что-то от театра.
Эта мысль решительно не нравилась ему.
– Она слишком молода, дорогой мой, ей не больше двадцати лет.
– Но, мой милый, мало ли что можно проделывать и до двадцати лет! Танцы, декламация, не говоря уже о других вещах, которыми она, может быть, единственно и занимается.
– Экспресс на Ниццу – Вентимилью, занимайте места! – закричал кондуктор.
Пришлось войти в вагон. Наша соседка ела апельсин. Ее манеры в самом деле не отличались изысканностью. Она разостлала на коленях носовой платок, а то, как она снимала золотистую корку, открывала рот, хватая губами дольки апельсина, и выплевывала зернышки в окно, изобличало простонародные привычки и жесты.
Она как будто еще больше насупилась и уничтожала апельсин с яростью, положительно забавной.
Поль пожирал ее взглядом, придумывая способ привлечь ее внимание, разбудить ее любопытство. И он снова пустился болтать со мною, изрекая множество изысканных мыслей, непринужденно упоминая о знаменитостях. Но она не обращала никакого внимания на его усилия.
Проехали Фрежюс, Сен-Рафаэль. Поезд мчался теперь среди пышных садов, по райской стране роз, через рощи цветущих апельсиновых и лимонных деревьев, покрытых одновременно и гроздьями белых цветов и золотистыми плодами, среди благоухающего царства цветов, вдоль восхитительного побережья, которое тянется от Марселя до Генуи.
В этот край, где в тесных долинах и по склонам холмов свободно и дико растут прекраснейшие цветы, надо приезжать именно в июне. Куда ни взглянешь – повсюду розы; целые поля, равнины, изгороди, чащи роз. Они ползут по стенам, распускаются на крышах, взбираются на деревья, сверкают среди листвы – белые, красные, желтые, мелкие или огромные, тоненькие, в простеньких однотонных платьицах, или мясистые, в тяжелом и пышном наряде.
Их непрерывное могучее благоухание сгущает воздух, придает ему вкус, насыщает его томлением. А еще более резкий запах цветущих апельсиновых деревьев словно подслащивает вдыхаемый воздух, превращая его в лакомство для обоняния.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Перевод А. Худадовой.









