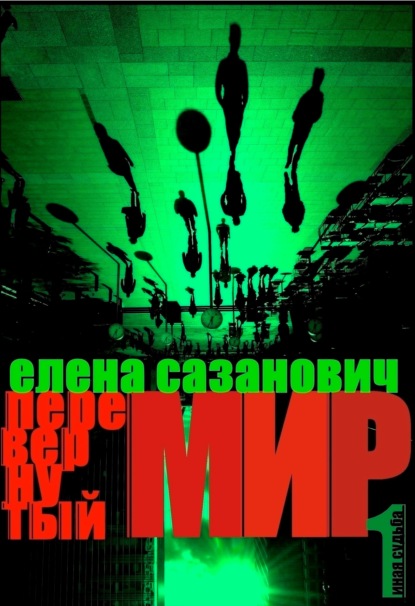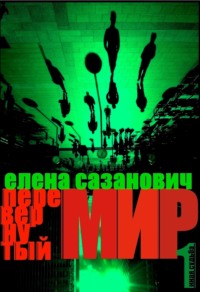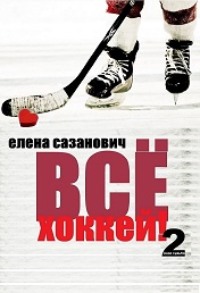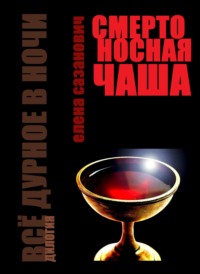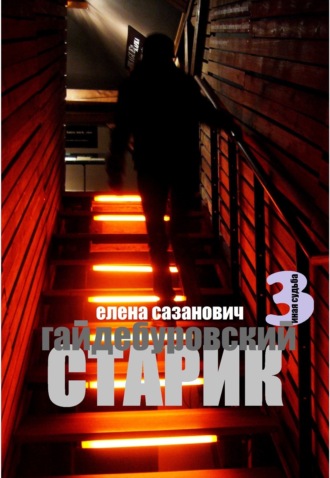
Полная версия
Гайдебуровский старик
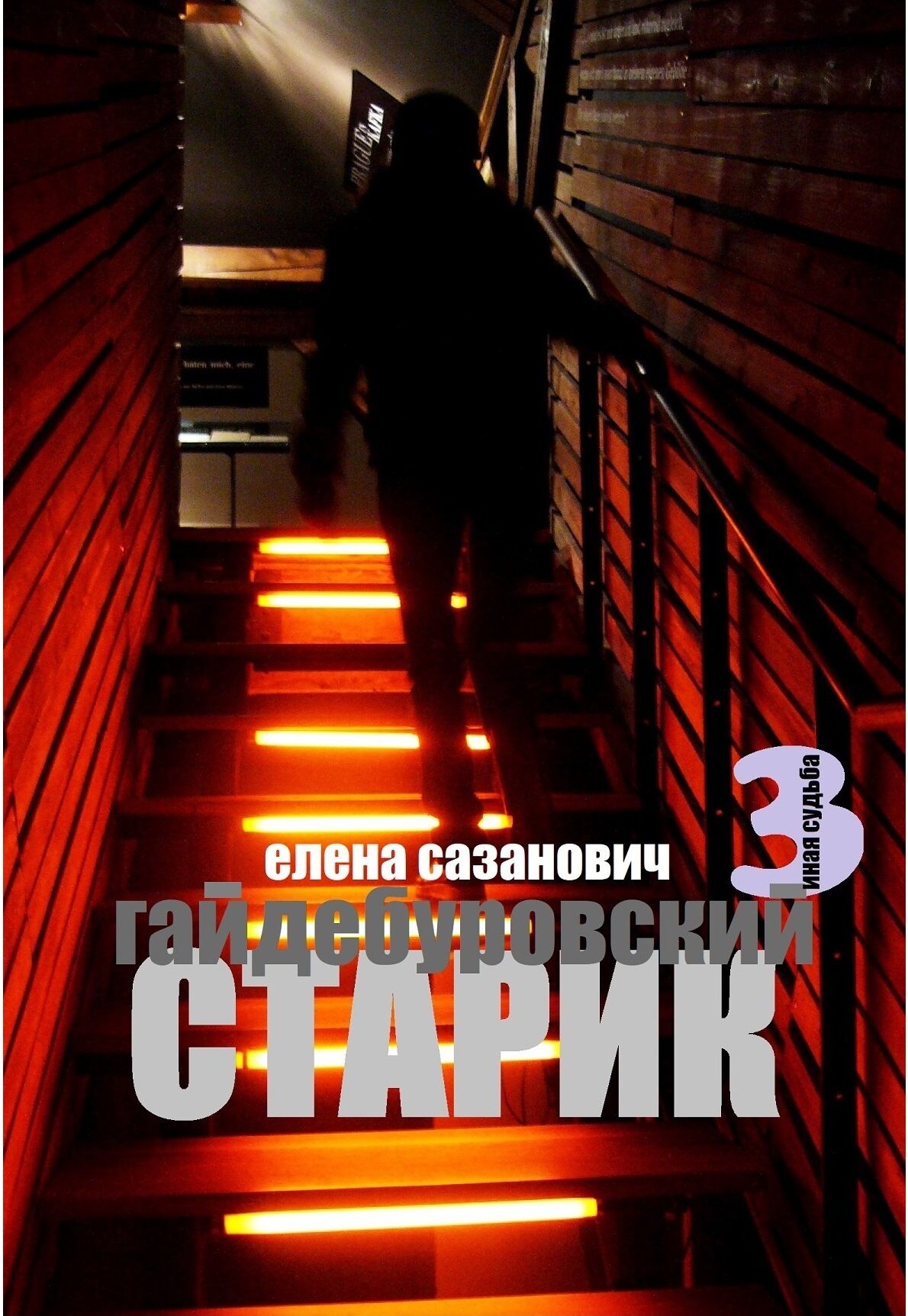
Елена Сазанович
Гайдебуровский старик
(В журнальном варианте опубликован в журнале «Подвиг», № 6, 2010)
У меня в детстве был мяч. Обычный, резиновый, по-моему, волейбольный. Такими мячами еще на пляже играют. Мы играли им во дворе, но могли бы и на пляже. Если бы пляж был рядом. И было рядом море. Но ничего такого не было. Только дома, магазины, машины и наш маленький дворик с волейбольной площадкой.
Я не помню, кто мне этот мяч подарил. Может, отец. Вполне возможно, двоюродный брат. Мяч был сделан в виде глобуса. И на нем умещался весь наш мир. Не такой уж большой целый мир. Который я вечерами рассматривал под тусклой настольной лампой. Забравшись с ногами на диван и уплетая мамины пирожки с кислой капустой. В этом мире было все, что душа пожелает. И горы, и леса, и джунгли, и даже пустыня. И, конечно, море, которое я никогда не видел. И на берегу которого вполне мог играть в волейбол.
Но постепенно мир на мяче тускнел, стирался, становился нечетким и грязным.
Однажды мы играли миром на стройке, и он попал в гущу битого стекла. И сдулся. Быстро, за каких-то пару минут. Которые мне показались вечностью. Я заворожено наблюдал, как сдуваются моря, горы, города, страны и целые континенты. По-моему, именно в тот миг, когда на моих глазах сдулся целый мир, я почувствовал себя его частью. Маленькой частью. Но единственно выжившим на всей нашей планете.
Мне показалось, что и я что-то значу в этом мире. Во всяком случае, у меня оставался шанс что-то значить. Если я единственный выжил.
Я нес в руках помятую, выцветшую резину, когда-то называвшуюся мячом. Я нес ее важно, торжественно, словно держал в руках флаг победителя. Мне не важно было, что наш мир погиб.
Мне важно было, что я в нем умудрился выжить…
А вечером его окончательно разодрал наш кот. И мама выбросила его через форточку.
Утром, стоя босыми ногами на балконе, я наблюдал, как хромой дворник сжигает вместе с мусором и листвой жалкие остатки какого-то разодранного, потускневшего мира. Мира, который был когда-то и моим. И который я почему-то перестал жалеть.
Отрывки из детства пронеслись минутным вихрем в моей голове, когда через стеклянную витрину я разглядывал мяч в виде глобуса. Он не был похож на мой и не мог быть похож. Потому что продавался в антикварной лавке. Потому что очень дорого стоил. Хотя я сильно сомневался, что столько стоит наш мир, который вызывающе разместился на нем.
Ливень хлестал по моим щекам, резкие струи дождя протекали за ворот куртки, желтая листва прилипала к моим кроссовкам, угрожающе завывал ветер. Они тоже недорого стоили. Может быть, именно поэтому я в отчаянии распахнул двери антикварной лавки. Чтобы согреться. А не потому, чтобы вспоминать детство, которое сгорело вместе с моим первым мячом. Сгорело, как у всех – я не исключение. Сгорело, как и все. Неисключительное.
В лавке никого не было. Я стоял напротив мяча и, не прикасаясь, его разглядывал. Те же страны, горы, моря, океаны. В мире ничего не меняется. И вряд ли изменится. Если мир, конечно, однажды не сожжет хромой дворник вместе с мусором и листвой.
Позади меня послышался кашель. Так кашляют старики и продавцы, желающие привлечь внимание. Я резко оглянулся. И оказался вдвойне прав. Передо мной стоял и старик, и продавец в одном лице. Более того, он был типичным антикваром. Я даже удивился хрестоматийности образа. Высокий, сутулый, длинные седые волосы спадали на заостренные плечи. Седая борода аккуратно подстрижена. Черная фетровая беретка небрежно сдвинута на лоб. Из-под белых густых бровей настороженно выглядывали глаза болотного цвета. Одним словом, человек без лица. Просто антиквар. Похоже, не только мир неизменим, но и люди.
– Вас что-нибудь интересует, молодой человек? – низким густым голосом пропел он. Впрочем, я и не ожидал услышать другого.
– Сколько лет этому мячу? – спросил я, хотя мне было все равно. Мне нужно было дождаться, когда закончится буря.
– Более ста. Если вас интересует точная дата, я могу посмотреть документы.
– Нет, более столетия – это достаточно.
– Вас интересует история мяча?
– Нет, скорее его стоимость.
Меня не интересовало ни то, ни другое.
Старик назвал сумму, от которой у меня подкатил ком к горлу. Короче, я этой стоимостью чуть не подавился. Но виду не подал. За окном потемнело, хотя до вечера было еще далеко. А старик так и не зажег свет. Может быть, экономил. Ливень усилился, ветер так хлестал по деревьям, что они прогибались к земле. И целовали мокрую землю. Я не хотел оказаться на их месте. Слишком часто мне приходилось это делать. И сегодня мне нужно было оттянуть время.
– Понятно, – ответил я с достоинством, словно каждый день покупал подобные вещи.
– Этот мяч принадлежал самому Вильяму Моргану – старик гордо встряхнул седыми волосами.
Я поежился. Фамилия показалась довольно знакомой.
– Неужели самому? – я округлил глаза. И стукнул себя по лбу. Я вспомнил. – И как он к нему попал? К этому кровожадному пирату? Я и понятия не имел, что в перерывах между грабежами разбойники обожали на палубе играть в волейбол.
Старик сузил глаза. Он не понимал, я просто остряк или просто невежда. Впрочем, во мне всегда успешно совмещались и тот, и другой.
– Знаете, молодой человек, в истории было два Моргана. А, скорее всего, три или четыре. А еще, что вероятно, их было гораздо больше. Верите, но люди с одинаковой фамилией встречаются чаще, чем вы можете предполагать. Вашего Моргана звали Генри. И изобрести волейбол он просто не мог. Поскольку между ними пролегают более чем два долгих столетия. Но, увы, человеческая память почему-то тяготеет к дурным примерам. Почему? Не потому ли, что нам проще совершать дурные поступки, и фамилии дурных людей проще запоминаются? И мы помним пирата, а не изобретателя волейбола.
– Ну, с этим можно поспорить. Думаю, все проще. Мы помним тех, про кого больше сказано в истории. Или про кого больше рассказано историй. И интересней. И потом… Плохое лучше запоминать, чем повторять, – мне стало неловко, и я осторожно провел пальцем по мячу. – Этим мячом Морган играл в волейбол?
Старик не мог скрыть улыбки. Хотя из-за густой бороды она плохо была видна. Но я ее угадал. По растянувшимся щекам.
– Этот подарок. Он был сделан специально для него. В его, так сказать, честь. Им и чествовали этого замечательного изобретателя волейбола. Эксклюзивный вариант. А вы попробуйте им сыграть. Попробуйте подбросить мяч. Ну же, смелее.
Я осторожно взял мяч в руки. Он оказался невероятно тяжелым. Словно сделан был из свинца. Ничего себе! Подарочек! Как он, бедный, домой тащил этот презент. Может, у Моргана было больное сердце, и беднягу просто решили добить? Но эти предположения высказать вслух я не решился. Старик бы не понял.
Я опустил мяч на витрину. Перевел дух. И украдкой посмотрел за окно. За окном – сплошная пелена дождя. Завывание ветра. И вспышки молнии в темноте. Жуткое зрелище.
– А почему этот подарок был в форме глобуса? – я, как мог, поддерживал разговор. Мне нужно было оттянуть дождливое бурное время. – Или все же фамилия пирата наложила свой отпечаток? Тот наверняка хотел ограбить весь земной шар, шаря по морям-океанам.
– Забудьте вы о разбойниках и пиратах! Вам не шестнадцать! – старик раздраженно махнул рукой. – А глобус… Ну, это очень просто. Волейбол завоевал весь мир. Люди по наивности думают, что только они способны на завоевание мира. Но ни у одного из них это так и не получилось. Во всяком случае, надолго. В том числе и у вашего Моргана. Мир завоевывают вещи, понятия и слова. Причем без боя.
Старик, похоже, был философом. Но не по профессии. По призванию. Еще бы не философствовать, сидя среди старых вещей, пропитанных запахом ветхости минувших лет, от которого слегка мутило.
Я был философом по профессии, поскольку когда-то закончил философский факультет университета, самый бессмысленный факультет. Потому что ни один философ за все время на всей планете так и не ответил в чем смысл нашего существования. По призванию я философом так и не стал. Мое призвание ограничилось работой в средненьком супермаркете, где я служил (именно служил, как сторожевая собака!) охранником. Там знание философии было не к месту. И выглядело бы скорее дурным тоном. Дурной тон я всегда избегал. Особенно, если моими товарищами были продавщицы и грузчики…
– Ну-с, молодой человек, вы решились на покупку?
Вежливый тон старика меня почему-то взбесил. Я привык к другой тональности. Но, поскольку дождь продолжал лить, как из ведра, я, слегка припомнив, что учился в университете, ответил.
– Решился? – я изобразил на своем лице приветливую улыбку. – Почти. Сами понимаете… Решиться на такую дорогую вещь… Причем, совершенно будучи равнодушным к волейболу. Более того, понятия не имея – кто такой Морган. И еще, более того, будучи равнодушным к планете, которая изображена на мяче…
Болотные глаза старика сузились. И мне показалось, он растерялся. Вновь кашлянул от неловкости. А, возможно, его философия была не столь уж глубока и философична.
– В таком случае, я не понимаю, – прохрипел он.
Еще бы он понимал!
Я действительно был равнодушен. И не только к планете. Но и к месту, где я жил. И к тому, что меня окружало. В квартире. И за окном. Был равнодушен к своей работе. И к своим праздникам. И к своим друзьям. И своим недругам. И, наверное, к самой жизни. Может быть, я был не равнодушным к единственному существу на планете – к Тасе? Но я не знал – это много или мало для жизни.
Мы не могли друг друга не полюбить. Это было неизбежностью. Нет, не случайной встречей, не взрывом романтических чувств, не желанием наконец-то обрести любовь ради любви. Эти слова были пригодны для рая. Вряд ли и она, и я в этом раю жили. Все было проще. Мы работали бок о бок. Так уж получилось, что ее отдел товаров для быта, где она была продавщицей, находился рядом с выходом из универмага. Который я охранял, чтобы пронырливые покупатели что-нибудь не стащили. Пачку творога, к примеру. Или кусок мыла. Мыло почему-то больше всего пользовалось спросом. Или его легче всего было унести. Не знаю точно. Статистикой воровства в супермаркете я не занимался.
К тому же Тася оказалась самой симпатичной продавщицей. А я самым симпатичным охранником. Вариантов не было. Впрочем, я часто думал, что она меня полюбила не за внешность. Это большая роскошь. Любить красоту. Ни она, ни я этой роскоши себе не могли позволить. Она полюбила меня именно потому, что я когда-то учился в университете. Хоть я был и в меру красив, и в меру высок. За это она бы меня не посмела полюбить. Ей нужно было выживать не только в супермаркете, но и в этом мире. Она полюбила меня за образование. Смешно, но правда. Тася еще смела надеяться, что хорошее образование – залог, если не успешной карьеры, то успешной порядочности и надежды на будущее. Впрочем, я тоже полюбил ее не за красоту. Только не это! Я полюбил ее, скорее всего, за необразованность. Хотя она была хороша собой. В меру круглое лицо, в меру синие глаза, в меру стройная фигура. Но я полюбил ее (стыдно признаться), за то, что она меня могла слушать с открытым ртом. Мне больше не перед кем было продемонстрировать свои философские измышления. Не перед покупателями же! Самые бесстыжие из которых таки умудрялись стащить кусок мыла. За который мне приходилось платить.
Впрочем, мы с Тасей неплохо ужились. Любовь это была или желание. Или желание, чтобы хоть кто-то любил. Это не важно. Хотя, не скрою, изначально я стал подсчитывать нашу любовь. Даже не подсчитывать, а считать дни любви. Зачем? Для кого? Знаете, как это бывает, когда считаешь будни до праздника. А какой у меня мог быть праздник? И с кем? И по какому поводу? Если все праздники всегда оказываются чужими. Я сам не мог ответить на этот вопрос. И, тем не менее, почему-то торопил, торопил время нашей совместной жизни.
Впрочем, я ловил себя на мысли, что вся наша жизнь подобна счету вслух. Поначалу считаешь цифры медленно. Потом берет нетерпение, и отсчитываешь все быстрее и быстрее. То ли сдают нервы, то ли устаешь, то ли хочешь поскорее закончить считать. Так идут годы. Поначалу размеренно, потом все быстрее и быстрее. То ли сдают нервы, то ли устаешь, то ли хочешь побыстрее рассчитаться. Так и не дождавшись праздника…
– Значит, вы ничего не желаете приобрести? – перебил мои непраздничные мысли антиквар.
Я вздрогнул – от неожиданности – и с тоской посмотрел за окно. Дождь усилился. Ветер рвал плакаты на улицах. Потоки воды уносили листья в разные стороны.
– Вы намекаете, что пора и честь знать? – вздохнул я.
– Ну, честь не в почете, особенно когда за окном такое твориться. Я бы мог предложить вам зонтик, – он зашел за прилавок и снял с крючка черный, довольно потрепанный мужской зонт с костяной ручкой. – Но у меня остался единственный экземпляр. И стоит он не дешево. Это вещь Ярослава Гашека. Вы знаете, он обожал зонты.
Антиквар с шумом раскрыл зонт. Он был весь в маленьких дырочках, словно съеденный мышью. А, возможно, Гашек просто гулял под дождем чаще, чем это следовало.
– Боюсь, что Ярослав Гашек мне не поможет.
Я решительно направился к выходу и с шумом распахнул дверь. Струи дождя ударили мне в лицо. Ветер чуть не сбил с ног.
– Погодите, – антиквар со всей силы сжал мое плечо и захлопнул дверь.
– Я откровенно вам скажу, молодой человек, я не люблю гостей. Покупатели мне гораздо милее. Но их так мало случается в моем бизнесе. Люди перестали ценить историю в деталях. К чему им зонтик Гашека или чемодан Менделеева? Кстати, к вашему сведению, великий ученый слыл и великим чемоданным мастером. Но, увы, наши милейшие покупатели порой понятия не имеют, кто владельцы этих вещей. Если владельцы забыты, то какова гарантия, что их же не забудет сама история через пару лет? Возможно, наши посетители где-то и правы. С их точки зрения, история в мелочах – невыгодный вклад капитала. Вот посему они предпочитают нечто глобальное, нечто масштабное. То, что заметно с первого взгляда. И чем можно воистину удивить. К примеру, бюро из красного дерева в стиле «барокко», либо комод с отделкой латунью в стиле «жакоб». Им не важно, кому эти вещи принадлежали. Они не задумываются, что каждая вещь – хранительница чьих-то семейных тайн. Наши господа не размышляют, что история сама по себе довольно коварна, как и человеческая память. То, что забыто сегодня, завтра, может, всплыть на поверхность, и по баснословной цене.
– Но покупатели живут сегодня. Они вряд ли думают о вечности. И об играх истории. Вот поэтому и предпочитают надежность. То, что бесспорно.
– Вот поэтому у меня практически нет покупателей, – старик гордо встряхнул седой шевелюрой. – Я сознательно на это пошел, уверяю. Главный принцип моего бизнеса, чтобы каждая вещь имела своего хозяина. И его помнила, даже если он не так знаменит. И каждая вещь имеет свою интереснейшую историю. Это не безликий материал, как бы красив и дорог он ни был. Это предмет, за которым стоят века, целые эпохи, целые судьбы. Не буду скромничать, но в некотором роде я бы свою антикварную лавку посмел сравнить с музеем. Разве что в музее мы просто созерцаем историю. А здесь имеем право не только к ней прикоснуться, но и купить. Поэтому завсегдатаев у меня немного. Но я не отчаиваюсь. Знаете ли – одна покупка в полгода – и я прекрасно эти полгода могу жить, ни в чем себе не отказывая. И, хочу заметить, не перетруждая себя.
– И на семью хватает?
– Мой дом, моя работа, моя семья, мои друзья, мои праздники и мои будни – вот они.
Старик обвел рукой комнату, в которой поселились сотни вещей. Столики и буфеты. Утюги и самовары. Патефоны и фотоаппараты. Подсвечники и сервизы. Книги и монеты. Драгоценности и булавки.
– Как много всего, – усмехнулся я. – И в то же время нет у вас ничего. – Нет жены, нет детей, нет друзей, нет даже соседей. Только антикварная лавка. Это и есть ваша родина?
– Почему только моя? И только родина? Это целый земной шар, молодой человек. Он для всех. И здесь все века. Здесь цари и слуги. Палачи и жертвы. Гении и ничтожества. Злодеи и герои. Поражения и победы. В этих стенах умещаются все страны и все континенты. Я в некотором роде космополит. И почему весь мир не может быть родиной. А родина миром?
…Я вдруг вспомнил, как год назад встретил своего однокурсника по университету Гарика Вышкина. Было так же дождливо и сыро. Так же по-осеннему муторно, монотонно и плаксиво. Все время хотелось пить, хныкать и жаловаться на судьбу и на страну. Мой однокурсник был свеж, толст, румян и весел. Словно в его мире всегда бушевало лето. И сезоны дождей его не касались. И смены времен года были где угодно, только не в его стране. В его стране возвышался огромный особняк с цветущим садом, регулярные поездки за границу и шикарный лимузин. В его стране, что самое противное, даже нашлось место для философии. Философию он тоже записал в каталог ценных приобретений. Хотя она слишком дешево стоила. Но Гарик об этом не знал. Он давно предпочитал только дорогие вещи. Похоже, и наш разговор он хотел сделать дорогим. И я совершил ошибку. Я это ему позволил. Мне все равно было кому плакать в жилетку. Тем более, если такая перспектива была реальной. Гарик и впрямь носил жилетки, сколько его помню. Сначала он подражал философам-разночинцам. Теперь, похоже, банкирам. И в тон его стандартной, но высокопарной речи о сложности жизни, я шмыгнул носом и так же стандартно, но высокопарно ответил:
– Понимаешь, Гарик, ну как бы тебе объяснить… Ну, словно, когда-то я умел летать. А теперь у меня сломано крыло. Или два крыла. Если бы их было три или четыре, они все равно бы все сломались. Вот так.
Гарик почесал лысую голову.
– Знаешь, – ему-таки в лысую голову пришла гениальная идея, – может быть, тебе влюбиться в кого-нибудь?
– Ну, в общем, я уже люблю, как могу.
Гарик наморщил высокий лоб.
– М-да? Ну, тогда подружись с кем-нибудь.
– У меня есть друг. Это я сам. Мне больше не надо.
Гарик сокрушенно причмокнул толстыми губами. Похоже, мое дело было дрянь.
– Ну, тогда посмотри хороший фильм или почитай хорошую книгу. Ей-богу помогает.
– Все что можно хорошего я уже прочитал и посмотрел. Не помогло.
Гарик сложил руки за спину и медленно прошелся взад-вперед перед моим носом. Он думал, как можно украсить мою никчемную жизнь. Не деньги же взаймы дать! Это было бы мелко. Особенно для философа. А я так тогда нуждался в деньгах. Но Гарик мне не посмел их предложить. А я не посмел одолжить. Гарик резко притормозил. Неужели все же решиться материально помочь товарищу. У меня даже дух захватило. Ведь все было так просто. Ну, ладно, не денег дать. Это и впрямь мелко. Но какую-нибудь достойную работу. И наверняка бы я с другим настроением встретил следующий день. Даже если он будет в тысячу раз дождливей и плаксивей. Какая к черту любовь, дружба и творчество!
– А знаешь, – Гарик понизил голос, встряхнул гордо головой и принял важный вид. Хотя куда уж важнее. В такой жилетке. – Знаешь, вот можешь мне поверить на слово! Не в деньгах счастье! Это я тебе говорю! Я, у кого их много, очень много! Они счастливым не сделают. Ну, вот скажи, что за них можно купить? По сути, по глобальной сути – ничего! Что? Любовь?
Гарик запнулся.
– Ну, ладно. Про любовь не будем. Возможно, это возможно.
Я знал, что у него молодая хорошенькая жена. Он провернул удачную сделку. И этого не скрывал.
– Дружбу? – Гарик развел пухлыми руками. И вновь себя перебил. – Ну, ладно. И про дружбу не будем. Друзья обожают присоседиваться к деньгам.
Я знал, что у Гарика было много друзей. А вот был ли другом для них Гарик? Я сомневался. Но за дружбу он щедро платил.
– Черт! – Гарик начинал злиться. Он не мог вспомнить, чего нельзя купить за деньги. – Вот! Здоровье! Его не купишь! Ни за какие…
Он вновь себя перебил. И высморкался в носовой платок.
– М-да. Конечно, если деньги хорошие…
Я знал, что у Гарика искусственная почка. Его вытащили буквально с того света. В старом свете. За огромные деньги. Он за свою жизнь заплатил высокую цену.
Гарик вновь прошелся взад-вперед перед моим носом. Но уже менее важно. Ему, бывшему студенту философского факультета так не хотелось признаваться, что все на свете можно купить и продать. Что первична таки материя. Базис, а не надстройка. Гарик не хотел проигрывать как философ. Он готов был проиграть, как банкир. Но он забыл, что банкиры редко проигрывают. В отличие от философов. И не сдавался. И с пафосом воскликнул. Так громко, как на митинге.
– Вот! Ни за какие миллионы ты не купишь… Ты не купишь родину! Продать ее, пожалуй, можно. А вот купить… Знаешь, как другу говорю. Полюби по-настоящему родину! Ей сейчас не сладко. А дым отечества нам по-прежнему сладок и приятен. Мы должны думать о ней. А ты как-то совсем уж апатичен и не патриотичен. Это нехорошо. Неправильно это. Нужно любить родину. Полюби ее. Искренне полюби.
И тут я взбесился. Лозунги о родине в устах банкира Гарика переполнили чашу моего терпения. Вспомнился в который раз Достоевский, плюнувший в последнее прибежище негодяев. Вот и Гарик передо мной. Такой толстый, румяный. Такой классный. В такой дорогой жилетке. И белый лимузин за углом. И трехэтажный особняк за городом. И двойное гражданство. Две родины в пиджаке. В каждом кармане по родине. А можно и три, и четыре, и пять. Сколько угодно для него можно иметь родин! Сколько карманов – столько и родин! И он, без пяти минут или пяти миллионов миллионер, и то позволяет себе думать о родине. Беспокоится за нее. Тревожится за ее судьбу. И судьбы опустошенного народа.
После проникновенной речи Гарика слово родина как-то для меня и вовсе утратило смысл.
– Родину?
Я вслед за Гариком почесал голову. Я не был лысым. Я не был толстым. Я был, можно сказать, хорош собой. Если о себе вообще такое говорят. Но в отличие от Гарика, у меня были пустые карманы. И ни одной родины.
– Родина. Я вообще-то когда-то ее потерял. А на другую не хватает наличных. Но если ты имеешь в виду чердак, который я снимаю. И протекающий ржавый кран. И холодные батареи. Или дым от благополучно почившего завода за окном. Представляешь, уму непостижимо! Завод умер, а дым остался. Ну, прямо как дым отечества. Или пень от березки, которую ни за что ни про что срубили. Или полуслепую старушку-соседку с хромой дворнягой, сидящую с протянутой рукой в переходе. Или даже супермаркет, где я служу. И где люди, как муравьи. И все они одинаковы. И все они какие-то безнадежно усталые. И все они не хотят уже ничего. Но покупают, покупают, хотя давно ничего не хотят. Одно и то же покупают. Их так много, много. И словно никого из них уже нет. Или вот-вот не будет. Или даже, если ты имеешь в виду мою Тасю, хорошенькую, кудрявую, румяную. В цветастом халатике и тапочках с мордочкой синего мишки? Ах да, еще разбросанные бигуди на тумбочке и флакончик розового лака у трюмо… Она обожает шуршать по утрам жалкими десятками у моего уха… Конечно, нет повода чтобы повеситься. Но не знаю, стоит ли это любить.
– Черт возьми! – Гарик отчаянно топнул остроносым ботинком с золотой пряжкой. – Ну, тогда возненавидь что-нибудь!
Я с горечью усмехнулся. Не дал-таки, подлец, денег, не дал. Хотя бы, чтобы купить один день. И разориться в этот день окончательно. Я вытер рукавом мокрое от дождя лицо.
– Для того, чтобы уметь ненавидеть, нужно уметь любить. Я разучился. Давно…
Из воспоминаний меня осторожно вывел низкий голос антиквара. Я прослушал, что он говорил. Но подумал, что какой он к чертям космополит. Если его родина умещалась в четыре стены. И до остального мира ему не было дела. Впрочем, не поэтому ли он так долго живет?
– Вещи не изменят, не предадут, не уволят, – продолжал философствовать старик. – Они не упрекают, не требуют, не скандалят. Конечно, они не живые, но кто доказал, что быть живым лучше? Вы согласны? Вижу, не очень. Что ж, попробую доказать. Меня, слава Богу, миновали муки любви, разочарований и нетерпение счастья. И войны проходили меня, и заключения мира. И землетрясения не сотрясали мой дом. И я не дрался на дуэлях. И никто не предавал меня, потому что я не познал дружбы. И мне предавать было некого. Но поверьте, возможно, я прожил самую яркую из всех возможных жизней. Именно потому, что я жил среди вещей, которые принадлежали другим. И именно эти вещи, вобравшие всю информацию, всю героику, все катаклизмы столетий, меня смогли защитить. А вы живете будущим. А оно так страшно, потому что так неизвестно. Я предпочитаю жить тем, что случилось вчера. Прошлое не боится будущего и настоящего. Прошлое вечно. Прошлое – это не надежда на счастье. Это само счастье, которое я могу выбирать.
Я огляделся. Да уж. Пожалуй, в этом он прав. О такой работенке можно только мечтать. Правда, склеп напоминает. Все какое-то мертвое, вычурное, затхлое. Даже если и ценное. И только вещи, вещи, вещи. Но с другой стороны, можно посмотреть на вещи проще. И чем эта антикварная лавка отличается от моего супермаркета? А супермаркет от обычного сельмага, где можно купить все. И зубную щетку, и одежду, и канцтовары. И чем работа старика отличается от моей? Мы охранники. Охранники безмолвных и бездушных предметов. Просто в том месте, где работаю я, мне приходится перетруждаться. Глохнуть от криков покупателей, слепнуть от разноцветных ярких упаковок, задыхаться от огромного пространства, в котором поместятся все. Но нет места для одного человека. И при этом еле сводить концы с концами. И от этого, все чаще слышать упреки Таси, которая все реже открывала рот при моих философских измышлениях (а я все реже им предавался). И все больше провоцировала меня на скандалы. Где главной темой спора была не диалектика познания бытия (Тася все равно понятия не имела, что это такое), а методичность убывания денег. И, безусловно, неудобство квартирки, которую мы с грехом пополам снимали.