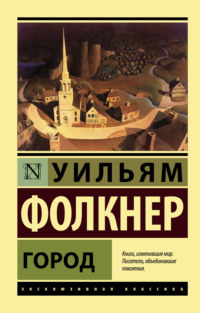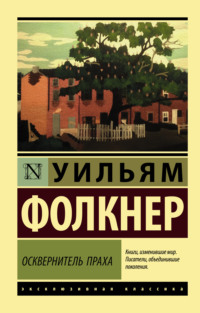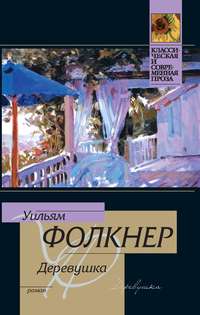полная версия
полная версияОсобняк
Но в Парчмене человек иначе воспринимал только то, что увидел после ареста. Парчмен не влиял на то, что человек принес сюда с собой. Просто вспоминать стало легче, потому что Парчмен учил человека ждать. Он вспоминал тот день, когда судья сказал; «Пожизненно», а он все еще верил, что Флем явится и спасет его, а потом наконец понял, что Флем не придет, что он и не собирался прийти, вспоминал, как он тогда же сказал, почти что крикнул вслух: «Вы отпустите меня хоть ненадолго, мне бы только попасть на Французову Балку или где он там будет, минут на десять, а потом я вернусь сюда, и можете меня повесить, ежели вам это нужно». И как даже тогда, три, пять или восемь лет назад, когда Флем подослал этого племянника – как его звали? – да, Монтгомери Уорд, и тот подговорил его на побег в женском платье и шляпе, а ему за это добавили еще двадцать лет, точь-в-точь как с самого начала предсказал этот дурак мальчишка, этот адвокат, – как даже тогда, отбиваясь от пяти надзирателей, он все еще кричал то же самое: «Только отпустите меня в Джефферсон на десять минут, потом я сам вернусь, потом можете меня повесить!»
Теперь он об этом уже не думал, потому что научился ждать. И он понял, что в ожидании он ко всему прислушивается, многое слышит; и, слушая, прислушиваясь, он даже лучше знал о том, что делается, чем если бы сам был в Джефферсоне, потому что тут ему надо было только следить за всем, а беспокоиться не надо. Значит, жена уехала к своим родным и, как говорили, умерла там, а дочки тоже уехали, выросли; может, на Французовой Балке, кто-нибудь знает, куда они девались. А Флем стал богачом, президентом банка, живет в доме – сам его перестроил, и дом, как рассказывали, был громадный, больше мемфисского вокзала, и с ним жила дочка, ублюдок от покойной дочери старого Билла Уорнера, дочка эта, когда выросла, уехала из дому, вышла замуж, а потом она с мужем была на войне, где-то в Испании, и там не то бомбой, не то снарядом убило ее мужа, а ее совсем оглушило. Теперь она вернулась, вдовая, живет с Флемом вдвоем в огромном этом доме и, говорят, даже грома не слышит, но в Джефферсоне народ ее не очень жалеет, потому что она связалась с какой-то негритянской воскресной школой, а еще говорили, что она связалась с какими-то «коммонистами», муж ее тоже был из них, будто они в той войне и дрались на стороне этих самых «коммонистов».
Флем, наверно, постарел. Оба они постарели. Когда он выйдет, в тысяча девятьсот сорок восьмом году, они с Флемом оба будут совсем стариками. А может, Флем и не доживет, и ему незачем будет выходить в тысяча девятьсот сорок восьмом году, а может, он и сам не доживет, не выйдет в тысяча девятьсот сорок восьмом году, и он вспоминал, как вначале одна эта мысль приводила его в бешенство: вдруг Флем умрет своей смертью, а может, найдется другой человек, удачливей его, такой, что не обречен судьбой на неудачу, такой, которого не поймают, и тогда ему казалось, что этого не вынести: ведь он не справедливости требовал, справедливость только для счастливцев, только для победителей, но может же человек хотя бы надеяться на удачу, имеет же каждый право на удачу. Но и это все уже отошло, расплылось, распылилось в монотонном ожидании, в тысяча девятьсот сорок восьмом году оба они с Флемом уже будут стариками, и он даже бормотал вслух: «Жаль, что нельзя нам, старикам, просто выйти вместе, посидеть спокойно на солнышке или в холодке, дождаться, пока смерть нас обоих заберет, и ни о чем не думать, ни о каком-то там зле или обиде, ни о счетах, даже не помнить, что было зло, была обида, и беда, и расплата». Двое стариков, они не только никому уже не нужны, но скоро и совсем будут ни к чему, разве можно стереть, зачеркнуть, изничтожить те сорок лет, которые ему, Минку, тоже теперь ни к чему, а скоро он о них и совсем жалеть не станет. «Нет, как видно, теперь уж мы ничего поделать не можем, – думал он. – Теперь уж мы оба ничего вспять не повернем».
И снова осталось только пять лет – и он выйдет на свободу. Но на этот раз он твердо помнил урок, который ему преподал дурак адвокатишка тридцать пять лет назад. Их было одиннадцать. Они работали, и ели, и спали вместе – одна кандальная команда, они жили в отдельном бараке из досок, парусины и проволоки, – стояло лето: скованные одной цепью, они шли в столовую есть, потом – в поле работать, потом, опять-таки скованные цепью, спать в свой барак. И когда был задуман побег, все десять должны были втянуть его в заговор, чтоб он их случайно не выдал. Они не хотели его втягивать: двое так и не согласились на это. Потому что с той неудавшейся попытки бежать не то восемнадцать, не то двадцать лет назад всем было известно, что он по собственному почину стал горячим проповедником доктрины воздержания от побегов.
И когда они наконец сказали ему просто потому, что он должен был знать их тайну, чтобы по неведению ее не выдать, хотел он или не хотел участвовать в побеге, то в ту самую минуту, как он сказал, крикнул: «Нет! Стойте, погодите! Погодите! Не понимаете вы, что ли, если хоть один из нас попробует бежать, они всех обвинят, схватят, тогда уж никому не выйти, даже если отсидишь свои сорок лет», – он тут же понял, что наговорил лишнего. И когда он себе сказал: «Теперь мне надо освободиться от этой команды, уйти от них», – он не думал: «Если я окажусь с ними в темноте, один, без часовых, мне никогда больше свету не видать, – а просто подумал: Надо вовремя поспеть к начальнику, пока они не удрали, может, уже сегодня ночью они всех нас погубят».
Но все равно ему пришлось ждать наступления той самой темноты, которой он так боялся, ждать, когда потушат свет, и притворяться спящим, ждать, чтобы убийцы на него напали, потому что только во время переполоха, который подымется при нападении на него, он мог надеяться привлечь внимание часового, предупредить его, заставить его поверить. А это значило, что он должен был хитростью перекрыть хитрость: он застыл на своей койке, пока они не начали притворно храпеть, чтобы заглушить его подозрения, прислушивался напряженно, неподвижно, затаив дыхание, чтобы вовремя, сквозь храп, разобрать тот звук, который предвещал удар ножа (или палки, или еще чего-нибудь) и успеть скатиться, слететь с койки, еще одним судорожным движением перекатиться под койку, пока они – он не мог разобрать, сколько их, потому что громкий притворный храп стал еще громче, – пока они не набросились на пустоту, где еще какую-то долю секунды назад лежал он сам.
– Держи его! – задохнулся, зашипел кто-то. – У кого нож?
И другой голос:
– У меня. Да где ж он, сволочь? – А он, Минк, даже не остановился: еще одно судорожное движение, и он выкатился из-под койки и на четвереньках, меж топочущими ногами, прорвался, отполз как можно дальше от койки. Весь барак сдавленно шумел.
– Свет давай! – бормотал кто-то. – Хоть на минуту свет!
Вдруг он очутился в пустоте, на свободе, и смог вскочить. И тут он завизжал, заорал без слов – только крик, резкий человеческий голос, и сразу кто-то зашептал, задыхаясь:
– Вот он. Держи…
Но он уже отбежал, отпрыгнул, отскакивая от одного невидимого тела к другому, как бильярдный шар, крича, вопя неумолчно, даже когда понял, что сквозь парусиновые стены видно, как весь воздух пронизан не только прожекторами, но и воем сирены, а сам он окружен озверелыми молчаливыми людьми, они, словно рыбы, то выскакивали, то пропадали в беглом низком свете, который проникал через проволочную сетку над невысокой дощатой перегородкой, он даже увидел, как над ним сверкнул нож, и он нырнул, бросился в гущу, в водоворот ног, пытаясь пролезть под койку, под любую койку, чтоб уйти от ножа. Но было поздно, они уже увидали его. Он исчез под ними. Но и для них было поздно: казалось, что буравящие лучи прожекторов, даже самый вой сирены – все нацелено, направлено, сосредоточено на шатком, непрочном загончике, набитом орущими людьми. Ворвалась стража. Стражники били их по головам пистолетами, прикладами винтовок, оттаскивая их от него, пока он не оказался на виду у всех, избитый, окровавленный, но все еще в сознании. Он даже ухитрился в последнем судорожном усилии так вывернуться, что нож, который должен был пригвоздить его к полу, воткнулся в доски у самого его горла.
– Чуть не пришили, – сказал он стражнику. – Но, выходит, наша взяла.
Взяла, да не совсем. Он опять попал в больницу и только потом узнал, как на следующую же ночь двое – Стилвелл, шулер, который зарезал проститутку в Виксбурге (нож принадлежал ему), и второй, – они оба и настаивали, чтобы его, Минка, не посвящали в заговор, а просто заранее прикончили, – все равно пытались бежать, хотя убежал только Стилвелл, а второму выстрелом часового снесло полчерепа.
И опять он очутился в кабинете начальника. На этот раз перевязок было мало, а швов и совсем не накладывали: били его недолго, и никакого оружия, кроме кулаков и ног, у них не было, нож Стилвелла в счет не шел.
– Ведь нож был у Стилвелла, верно? – сказал начальник.
Он сам не мог бы объяснить, почему он это скрыл.
– Не знаю, у кого был нож, – сказал он. – Очень уж все быстро кончилось.
– Стилвелл, кажется, тоже так считает, – сказал начальник. Он взял со стола разрезанный конверт и вынул сложенный вдвое листок дешевой линованной бумаги. – Получил сегодня утром. Впрочем, ведь вы не умеете читать по-писаному, правда?
– Нет, – сказал он.
Начальник развернул листок.
– Отправлено вчера, из Тексарканы. Тут написано: «Он еще ответит за Джейка Баррона (так звали второго заключенного, убитого часовым), с него еще когда-нибудь спросится, так что вы его постерегите. И времени терять не стоит, кое-кто из наших еще за решеткой». – Начальник сунул письмо в конверт, положил в ящик и запер на ключ. – Вот видите. Тут вам ходить на свободе опасно, тут любой из них может вас прикончить. Вам осталось сидеть всего пять лет, и хотя вы не всех помогли задержать, но, вероятно, по моей просьбе губернатор дал бы вам амнистию хоть завтра. Но я не могу этого сделать, потому что Стилвелл вас все равно убьет.
– Значит, если б капитан Джеббо (надзиратель, который стрелял), если б он убил Стилвелла, я бы завтра мог уйти домой? – спросил он. – А вы не могли бы узнать по письму, где он сейчас есть, и послать туда капитана Джеббо?
– Вы хотите, чтобы тот самый человек, который не дал Стилвеллу убить вас, теперь убил Стилвелла?
– Ну, другого кого пошлите. Несправедливо выходит: он ушел, а мне тут еще пять лет сидеть. – И вдруг добавил: – Ну да уж ладно. В конце концов, может, и среди нас тут затесался один победитель.
– Победитель? – переспросил начальник. – Как вы сказали?
Но он ничего не ответил. И впервые за все время он стал считать дни и месяцы. Никогда раньше он этого не делал, ни в те первые двадцать лет, что ему дали тогда, в Джефферсоне, ни в те двадцать, что ему добавили после того, как он послушался Монтгомери Уорда и надел этот старушечий балахон и шляпу. Ведь никто, кроме него, виноват не был, и когда при этом невольно вспоминал о Флеме, он словно нехотя гордился им, изумляясь, что они с ним одной крови. Он думал, а то и говорил вслух, без всякой зависти: «Да, уж этот Флем Сноупс, его не одолеешь. Во всем штате Миссисипи, даже во всех Соединенных Штатах Америки, вместе взятых, не найти человека, чтоб одолел Флема Сноупса».
Но тогда было дело другое. Он сам пытался бежать, хотя и неудачно, и безропотно принял добавочные двадцать лет заключения, пятнадцать из них он отсидел, не только не делая попыток к побегу, но даже рисковал жизнью, чтобы сорвать планы десятка других заключенных: в награду за это его могли бы освободить на другой же день, если бы один из надзирателей, меткий стрелок с винтовкой в руках, все-таки не прозевал одного из этих десяти заговорщиков. Выходило, что пять последних лет он должен сидеть не из-за себя. Он был готов добросовестно отсидеть свои сорок лет, и не его вина, что они превратились в тридцать пять и что остальные пять он сидел по милости злобной, даже ехидной благодетельницы-судьбы.
С этого рождества (впервые) кто-то стал отмечать за него медленно проходивший срок заключения. Пришла поздравительная открытка с мексиканским штемпелем, адресованная начальнику, для передачи ему. Начальник прочел открытку вслух, оба знали, от кого она: «Четыре года осталось. Не так много, как тебе кажется». На Валентинов день открытка была самодельная: на грубой, линованной бумаге красным карандашом, какие употребляют плотники и дровосеки, было грубо нарисовано сердце и стреляющий в него револьвер.
– Видите? – сказал начальник. – Даже если б ваши пять лет уже кончились…
– Мне не пять осталось, – сказал он. – Четыре года, шесть месяцев и девятнадцать дней. Так вы считаете, что и тогда меня нельзя выпустить?
– Чтоб вас прикончили прежде, чем доберетесь домой, да?
– Пошлите людей, пусть его поймают.
– Куда послать? – сказал начальник. – А если бы вы сами оказались на воле и не хотели возвращаться и знали бы, что я хочу вас вернуть, где бы я вас ловил, куда бы посылал людей?
– Да, – сказал он. – Значит, нет никаких человеческих возможностей, ничего не сделаешь.
– Нет, есть, – сказал начальник. – Надо выждать, ведь он непременно что-нибудь натворит, и полиция схватит его – не тут, так в другом месте.
– Выждать, – повторил он. – А вдруг человеку времени нет выжидать?
– Да ведь у вас есть еще четыре года, шесть месяцев и девятнадцать дней, так что можно не беспокоиться.
– Да, – сказал он, – у него еще есть время чего-нибудь натворить.
И снова рождество, снова открытка с мексиканским штемпелем: «Три года осталось. Далеко не так много, как тебе кажется».
Он стоял перед начальником, чуть опустив голову, тщедушный, маленький, неистребимый, в полосатой арестантской одежде, со спокойным лицом.
– Опять из Мексики, как видно, – сказал он. – Может быть, Он там его убьет.
– Что? – переспросил начальник. – Что вы сказали?
Он не ответил. Он стоял спокойный, сосредоточенный, невозмутимый. Потом заговорил:
– Пока у меня не началась эта коровья склока с Джеком Хьюстоном и раньше, когда я еще мальцом был, я каждое воскресенье ходил в церковь, а по средам – на молитвенные собрания, с той женщиной, что меня вырастила.
– А кто они были, эти люди? – спросил начальник. – Вы говорили, мать у вас умерла?
– Он-то был просто сукин сын. А она мне и вовсе не родня, просто его жена… Каждое воскресенье, пока я…
– А его фамилия тоже была Сноупс? – спросил начальник.
– Он был мой отец… пока я не подрос и не откололся от бога, бывает так, что думаешь – я уже вырос, мне ни от кого ничего не надо. А потом вы сказали, что раз я помешал девяти парням из десяти убежать, так мне можно пять лет скостить, а вышло так, что вы меня вовсе выпускать не собираетесь, и тут я Его опять признал.
– Как признали? – спросил начальник. – Кого признали?
– Бога признал.
– Вы хотите сказать, что вернулись в лоно церкви с той ночи, два года назад? Да ведь это неправда. Вы ни разу даже в церкви не были, с тех пор как попали сюда, с тысяча девятьсот восьмого года.
И это было верно. Впрочем, ни прежнего начальника, ни его преемника это ничуть не удивляло. Они скорее могли предположить, что он примкнет к одной из тех небольших бунтарских, непримиримых, ни с кем и ни с чем не согласных сект, – секты эти существовали наряду с официальными тюремными церковными организациями почти во всех провинциальных тюрьмах на Юге, – к какой-нибудь небольшой фанатической секте или группе (в этой тюрьме она называлась «Свидетели Иеговы»), которой руководили самозваные вожаки, попавшие в тюрьму по удивительно однообразной схеме: все они были осуждены за преступления, характерные для средней прослойки, для людей респектабельных и связанных с семейной жизнью или, во всяком случае, с женщинами: было и двоеженство, и присвоение денег секты ради женщины, ради своей или чужой жены, и только в редких случаях, да и то самые отпетые, попадали из-за профессиональных проституток.
– А мне церковь не нужна, – сказал он, – я все больше наедине, втихомолку.
– Втихомолку? – переспросил начальник.
– Ну да, – сказал он с каким-то даже раздражением. – Богу писем писать не нужно. Он-то давно вас насквозь видит, ему и беспокоиться не стоит читать, что вы там напишете. Ведь человек и на свободе начинает кое-что соображать, с годами, конечно. А тут начинаешь соображать куда быстрее. Раз есть такой высший Судья, у которого силы хватит тебе помочь, он тебе и помогает, а твое дело только верить и принимать помощь, дурак ты будешь, ежели не примешь.
– Значит, Он избавит вас от Стилвелла? – сказал начальник.
– А то как же! Чем я перед ним провинился?
– Не убий! – сказал начальник.
– А что же Он Хьюстону это не сказал? Разве я стал бы ездить в Джефферсон, спать на вокзальной скамейке, лишь бы достать патроны, если б Хьюстон меня не заставил?
– Ну и чертовщина! – сказал начальник. – Ну и чертовщина, будь я проклят! Тебя отсюда через три года выпустят, но, будь моя воля, я бы тебя сейчас же выставил, сегодня же, пока тебе в голову или чем ты там еще думаешь не взбрело и на меня косо посмотреть. Не хочу сидеть и всю жизнь представлять себе, что про меня так думают, как ты думаешь про тех, кто тебе мешает, чтобы мне желали того, чего ты им желаешь… Ну, ступай. Работать надо.
Но когда настал октябрь – месяц, насколько он знал, не праздничный, без подозрительных открыток – и начальник за ним послал, он даже не удивился. Начальник сперва только молча посмотрел на него – не то что растерянно, но как будто даже уважительно, потом сказал:
– Да, чертовщина. – Перед ним лежала телеграмма. – От начальника полиции из Сан-Диего, Калифорния. Там в мексиканском квартале стояла церковь. Она давно была заброшена, кажется, новую выстроили. Словом, служб там не было, а что в ней делалось, даже полиция толком не знала. А на прошлой неделе церковь обрушилась. Причин никто не знает, рухнула вдруг, и все. Там нашли человека, вернее, то, что от него осталось. Вот что пишут в телеграмме: «Отпечаткам пальцев ФБР установило ваш заключенный номер 08213 Шафорд Стилвелл». – Начальник вложил телеграмму в конверт, сунул конверт в ящик. – Расскажите, в какую это церковь вы ходили, до того как Хьюстон заставил вас убить его.
Но он ничего не ответил. Он только глубоко вздохнул.
– Теперь-то меня выпустят, – сказал он, – теперь я свободен.
– Не сию минуту, – сказал начальник. – Пройдет месяц-другой. Надо написать прошение, послать губернатору. Потом он запросит рекомендацию. А потом подпишет помилование.
– Прошение? – сказал он.
– Вы сюда попали по закону, – сказал начальник. – Вас и выпустить должны по закону.
– Прошение? – повторил он.
– Надо, чтобы ваши родные поручили юристу составить прошение о помиловании на имя губернатора. Жена… впрочем, она умерла. Ну, одна из дочерей.
– Наверно, они теперь уже замужем, уехали.
– Так, – сказал начальник. Потом сказал: – Черт побери, да вы уже фактически свободны, ведь у вас в собрании штата есть родич – кем он вам приходится, этот Эгглстоун Сноупс, которого два года назад провалили на выборах в конгресс?
Он стоял не двигаясь, слегка наклонив голову.
– Что ж, как видно, я тут останусь.
Как он мог сказать чужому человеку: «Кларенс, внук моего старшего брата, занимается политикой, ему голоса собирать надо. А когда я отсюда выйду, у меня избирательного права не будет. Чем же мне купить подпись Кларенса Сноупса на прошении?» Значит, оставался только сын Эка, Уоллстрит, а тот никогда никого не слушался.
– Видно, я тут у вас и эти три года отбуду, – сказал он.
– Напишите сами своему шерифу, – сказал начальник. – Я могу за вас написать.
– Хэб Хэмптон, тот, что меня засадил, он уже помер.
– Но какой-нибудь шериф там у вас есть? Что это с вами? Может, вы за эти сорок лет стали бояться солнца, воздуха?
– Тридцать восемь будет нынешним летом, – сказал он.
– Хорошо, тридцать восемь. Сколько вам лет?
– Родился я в восемьдесят третьем, – сказал он.
– Значит, вы тут сидите с двадцати пяти лет?
– Не знаю, не считал.
– Ну, ладно, – сказал начальник. – Ступайте! Когда захотите, я напишу письмо вашему шерифу.
– Пожалуй, я досижу, – сказал он. Но он ошибся. Через пять месяцев прошение уже лежало на столе у начальника.
– Кто это Линда Сноупс Коль? – спросил начальник.
Он долго стоял, не двигаясь:
– Ее папаша богатый банкир в Джефферсоне. У его деда и у моего все дети погодки.
– Она, как член вашей семьи, подписала прошение губернатору о вашем освобождении.
– Это как же понимать, шериф за ней послал, что ли, он заставил ее подписать?
– Как он мог? Ведь вы не дали мне написать шерифу.
– Верно, – сказал он. Он смотрел на бумагу, прочесть ее он не мог. Она лежала перед ним вверх ногами, впрочем, это тоже было все равно. – Вы мне покажите, где тут подписались те, что не хотят меня выпускать.
– Что? – спросил начальник.
– Те, кто не хотят, чтоб я вышел.
– А-а, вы про семью Хьюстонов. Нет, тут на прошении стоят только подписи прокурора, который вас засудил, вашего шерифа Хэба Хэмптона-младшего и еще В.К.Рэтлифа. Он не из Хьюстонов?
– Нет, – сказал он. Потом опять медленно, глубоко вздохнул. – Значит, я свободен?
– Мало того, – сказал начальник. – Вам не просто везет, вам вдвойне везет.
Но объяснил он ему, в чем дело, только назавтра, после того как ему выдали пару башмаков, рубашку, рабочий комбинезон, фуфайку и даже шляпу, все новехонькое, и еще бумажку в десять долларов и те три доллара восемьдесят пять центов, что оставались от сорока долларов, которые Флем послал ему восемнадцать лет назад, и тогда начальник сказал:
– Тут приехал помощник шерифа, привез заключенного из Гринвилля. Сегодня он едет обратно. За доллар он вас довезет прямо до Арканзасского моста, ведь вам как будто туда?
– Премного благодарен, – сказал Минк. – Я сначала поеду в Мемфис. У меня там дело есть.
Наверно, все тринадцать долларов и восемьдесят пять центов уйдут на покупку пистолета, даже в какой-нибудь мемфисской ссудной лавчонке. Он собирался пробраться в Мемфис на товарном поезде под вагонами или на буферах – так он ездил раза два, когда был мальчишкой и подростком. Но, едва выйдя за ворота, он понял, что боится. Слишком долго он сидел взаперти, забыл, как это делается; его мускулы, наверно, потеряли ловкость и упругость, он разучился действовать просто, быстро, не раздумывая, идти на риск. Потом он подумал – не попробовать ли осторожно забраться в пустой вагон, но понял, что и это он сделать не посмеет, что за тридцать восемь лет он, возможно, даже позабыл все неписаные правила братства мелких бродяжек, и вдруг спохватился, – да, слишком поздно.
Он стоял на обочине шоссейной дороги, которая тридцать восемь лет назад, когда он на нее ступил, даже не была вымощена камнем, и на грязи отпечатывались подковы мулов и железные ободья колес: теперь и с виду и на ощупь она стала гладкой, как пол, он это видел, а мог и потрогать, если вблизи не было мчащихся машин и грузовиков. В прежние времена любая повозка остановилась бы, чуть завидев поднятую руку. Но тут мчались не повозки, и он не знал, каким новым правилам они подчиняются. Конечно, если б он знал, как это теперь делается, он так бы и поступил, а не стоял тут, такой безобидный, тщедушный, ростом не больше ребенка, в новом комбинезоне и фуфайке, еще хранивших складки от лежания на полке, в новых башмаках и шляпе, как вдруг грузовик, проезжавший мимо, затормозил, остановился около него, и шофер спросил:
– Тебе далеко, папаша?
– В Мемфис, – сказал он.
– Я еду до Кларсдейла. Оттуда тебя другой подкинет. Не все ли равно – отсюда ли, оттуда.
Стояла осень, конец сентября, и он понял, что забыл еще одну вещь за тридцать восемь лет тюрьмы – времена года. Они и в тюрьме приходили и уходили, но в эти тридцать восемь лет единственное его право на них было терпеть из-за них мучения; от жары и солнцепека летом, хотел он работать в самое пекло или нет, от дождей и ледяной слякоти зимой, хотелось ему выходить или нет. Но теперь времена года снова принадлежали ему: через неделю наступит октябрь, тут, в плоской приречной долине, особенно глядеть не на что, он и тридцать восемь лет назад смотрел на нее из окна вагона с неодобрением: одни голые стебли хлопка да свечи кипарисов. Но там, дома, в горах, вся земля будет золотой и алой от орешника, дубов и кленов, а сжатые поля затеплеют от шалфея и пятен пунцового чертополоха – за тридцать восемь лет он и это забыл.
И вдруг откуда-то из глубины памяти возникло дерево, одинокое дерево. Мать умерла, он не помнил ее, не помнил, сколько ему было лет, когда отец снова женился. Так что эта женщина не была ему родней, и она вечно об этом напоминала: воспитывает она его не из родственных чувств, не по обязанности и не потому, что он слабый и беспомощный и как-никак человек, а только потому, что она христианка. Но было в ней и что-то другое. Он сразу это почувствовал – в этой изможденной, измученной, неряшливой женщине, которую он всегда помнил либо с синяком под глазом, либо с грязной тряпкой, прижатой к тому месту, куда ее только что ударил муж. Но он всегда мог на нее надеяться, не на то, что она что-нибудь для него сделает, тут она была бессильна, но на ее постоянство, на то, что она всегда тут, всегда помнит о нем, прикрывает каким-то щитом, правда, никак его не защищавшим, а, наоборот, словно притягивавшим к нему и боль и горе. И все же она всегда была тут, слезливая, умученная, но постоянная.