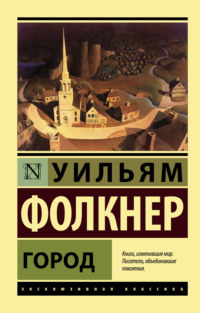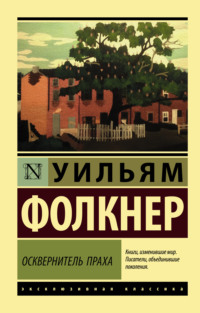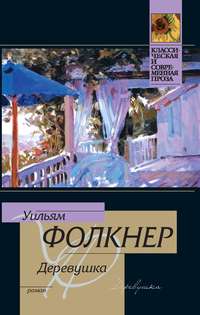полная версия
полная версияОсобняк
Но все это – и планка, и все прочее – появилось позже. А теперь Юрист получил свободу. И наконец – разумеется, не через три дня после отъезда Линды в Нью-Йорк, но и не через триста дней – он, как говорится, получил уже полную свободу. Он стоял у окошка на почте, с распечатанным письмом в руках, когда я вошел, и случайно в эту минуту, кроме нас, там никого не было.
– Его зовут Бартон Коль, – говорит он.
– Это как? – говорю. – Кого это так зовут?
– Мечту, вот кого, – говорит.
– Коул? – спрашиваю.
– Нет, – говорит, – вы произносите «Коул», а его фамилия – Коль.
– Вот как, – говорю, – Коль. Не очень-то американское имя.
– А Владимир Кириллыч, по-вашему, очень американское имя?
К счастью, на почте было пусто. Чистая случайность, он тут ни при чем.
– О, черт! – говорю. – Сто пятьдесят лет подряд, с тех пор как ваши проклятые янки из Конгресса выселили нас в горы Вирджинии, один Рэтлиф из каждого поколения тратит полжизни, чтобы скрыть свое имя, а в конце концов кто-нибудь обязательно ляпнет при всех. Наверно, Юла меня выдала?
– Ладно, – говорит, – помогу вам скрыть ваш семейный позор. А он – да, он еврей. И скульптор, наверно, отличный.
– Из-за этого? – говорю.
– Возможно, но не только из-за этого. Из-за нее.
– То есть оттого, что Линда выйдет за него замуж, он станет хорошим скульптором?
– Нет. Он, наверно, и сейчас лучше всех других скульпторов, раз она его выбрала.
– Значит, она вышла замуж, – говорю.
– Что? – говорит он. – Нет. Она только что с ним познакомилась, я же вам объяснил.
– Значит, вы еще не… – Я чуть было не сказал «не свободны», но спохватился: -…не уверены. То есть, значит, она еще окончательно не решила.
– А что я вам говорю, черт побери? Забыли, что я вам сказал прошлой осенью? Что она полюбит раз в жизни и уже навеки.
– Только вы сказали «обречена полюбить».
– Будет вам, – сказал он.
– Обречена на верность и горе, вы так сказали. Полюбить сразу, и сразу его потерять, и потом всю жизнь быть ему верной, и горевать о нем. Но, пока что она ведь еще его не потеряла. Она, собственно говоря, его еще и не заполучила. Правильно я говорю или нет?
– Я вам сказал – хватит! – говорит он.
Произошло это примерно в первые полгода. А через год та самая деревянная планка для ног появилась на старинной, маунтвернонской каминной доске ручной работы – такая грубая, некрашеная планка, будто ее взяли прямо из поленницы, – и прибита она деревенским плотником, можно сказать, к самой неприступной горной вершине, вроде как бы к Маттерхорну [14] респектабельности, – так альпинист пыхтит, собирает все силы для последнего броска, – смерть или победа! – лезет туда, старается взобраться на эту неприступную вершину, венец всех устремлений, а потом уродует ее, вырубает свое имя – имя победителя. Но он-то был не такой. Он и тут снова проявил свое смирение, но не явно, иначе на него страшно обиделись бы те, кто уважал всякие альпинистские попытки лезть в гору при помощи Торгово-земледельческого банка, нет, он прибил эту планку у себя, в уединении, как строят тайную часовню или алтарь: не для того, чтобы цепляться за нее в отчаянной и упрямой попытке влезть в гору, а для того, чтобы класть на нее ноги, когда отдыхаешь от подъема.
В тот день я проходил мимо прокурорского кабинета, как вдруг Юрист вылетел из-за угла; как всегда, из всех карманов у него торчали бумаги, и обе руки, как всегда, тоже были полны бумаг. Я его постоянно видел только в двух состояниях: либо он сидел более или менее спокойно, либо летел так, будто ему за шиворот насыпали раскаленных углей.
– Бегите домой, хватайте чемодан, – говорит. – Сегодня вечером выезжаем из Мемфиса в Нью-Йорк.
Тут мы поднялись к нему в кабинет, и он сразу перешел в то, другое состояние. Он бросил все бумаги россыпью на стол, взял с подноса свою тростниковую трубку и сел, а когда стал шарить по карманам, ища спички, или табак или еще что, то обнаружил и там кучу бумаг и тоже бросил их на стол, откинулся в кресле, как будто он вое уже перевидал и пережил и в следующие ото лет ровно ничего случиться не может.
– На новоселье, – говорит.
– Вы хотите сказать – "а свадьбу? Так оно, кажется, зовется, когда священник получает свои два доллара?
Он ничего не сказал, сидит и раскуривает трубку с таким видом, словно ювелир приплавляет еще один комочек платины к крышке часов.
– Значит, они не женятся, – говорю. – Значит, они просто, так сказать, соединяются. Слыхал я и об этом, потому-то и зовут эти гринич-вилледжские опыты мечтами: там можно проснуться рядом и не вскакивать с кровати, чтоб добежать до ближайшей регистратуры.
Он и не пошевелился. Только весь ощетинился, сразу, вмиг, даже не двинувшись с места. Сидит, весь ощетинился, как еж, а сам не пошевельнется и только говорит холодно и спокойно, потому что даже у ежа, когда он как следует ощетинится всеми колючками, голос может быть холодным, спокойным, сдержанным.
– Хорошо, хоть это и незаконно, я согласен применить к их отношениям термин «брак». Вы возражаете или протестуете? Может быть, вы найдете более подходящее определение? Ведь времени-то осталось мало, – впрочем, что ж я говорю «мало», – времени вообще не осталось. У нынешней молодежи времени и вовсе не осталось, потому что только глупцы моложе двадцати пяти лет могут еще верить и даже надеяться, что еще хватит времени у нас, у всех, кто еще жив сегодня…
– Но разве много времени нужно, чтобы сказать при священнике «да», а потом заплатить ему, сколько полагается?
– Но я же вам только что объяснил: и на это времени не осталось, если ты прожил всего двадцать пять – тридцать лет.
– Ага, значит, вот ему уже сколько, – говорю. – Сначала вы говорили просто двадцать пять.
Но его уже вообще нельзя было остановить.
– Всего одно десятилетие прошло, с тех пор как их отцы, и дяди, и братья покончили с той войной, которая должна была навсегда освободить государственный организм от паразитов – тех наследственных собственников, тех вершителей судеб рода человеческого, которые только что убили восемь миллионов живых существ и разрушили полосу в сорок миль шириной в Западной Европе. И вот через какие-нибудь десять – двенадцать лет те же самые бессовестные дельцы, даже не потрудившись сменить имя и лицо и только прикрываясь новыми должностями и лозунгами, позаимствованными из демократического лексикона и демократической мифологии, снова, без передышки, объединяются для того, чтобы погубить единственную, заранее обреченную отчаянную надежду…
«Сейчас он станет перечислять тех, кто разбил сердце президента Вильсона и погубил Лигу наций» [15], – подумал я, но он уже понесся дальше – вот уж действительно без передышки.
– Тот, кто уже сидит в Италии, и тот, другой, куда более опасный, в Германии, – потому что у Муссолини в распоряжении всего лишь итальянцы, а у того, другого, – немцы. И тот, кто в Испании, ему только и надо, чтобы его не трогали мы, все те, кто считает, что, если хорошенько зажмурить глаза, все само собой пройдет. Уж не говоря…
– Уж не говоря о том, кто в России, – сказал я.
– …о тех, что сидят у нас тут, дома: всякие организации с пышными названиями, которые во имя божье объединяются против нечистых в моральном и политическом отношении, против всех, у кого не тот цвет кожи, не та религия, не та раса: Ку-клукс-клан, «Серебряные рубашки» [16], не говоря уж о туземных, местных радетелях, вроде сенатора Лонга [17] в Луизиане или нашего дорогого Бильбо в Миссисипи, я уж молчу про нашего собственного дражайшего сенатора Кларенса Эгглстоуна Сноупса, тут у нас, в Йокнапатофском округе.
– Уж не говоря о том, кто в России! – говорю.
– Что-о-о? – говорит он.
– Ага, понимаю. Значит, он не только скульптор. Он еще и коммунист.
– Что? – говорит он.
– Ваш Бартон Коль, – говорю. – Они не обвенчались прежде всего по той причине, что Бартон Коль коммунист. Он не может верить в церковь и в брак. Ему не позволят.
– Нет, он-то хотел, чтобы они обвенчались, – говорит Юрист. – Это Линда не захотела. – И тут уж я сказал: «Что?» – а он все сидел, сердитый, колючий, как еж. – Не верите? – спрашивает он.
– Нет, верю, – говорю. – Верю.
– А зачем ей венчаться? Что хорошего она видела в законном браке, который наблюдала в течение девятнадцати лет, зачем же ей теперь хотеть того же?
– Ну, ладно, – говорю, – допустим. Впрочем, в это я все-таки не очень верю. В то, что вы раньше сказали, я верю – насчет того, что времени осталось мало. И что, когда ты молодой, можно во многое верить. Когда ты молодой, и в то же время смелый, можно ненавидеть всякую нетерпимость и верить, что есть надежда, а если ты по-настоящему смелый, так можно и действовать. – Он все еще смотрел на меня. – Я бы сам хотел быть таким, – говорю.
– Значит, надо не просто выйти замуж, а выйти за кого угодно, лишь бы законным браком. Лишь бы не сожительство. Даже вы так думаете!
– Я не о том говорю! Я хотел бы быть таким, как они. Быть непримиримым, верить, надеяться и действовать как надо. Любой ценой. Даже если для этого надо, чтобы опять стало меньше двадцати пяти, как ей. Даже если надо стать скульптором из Гринич-Вилледжа, как он.
– Значит, вы отказываетесь верить, что ей просто хочется ласки, хочется быть счастливой, как она это называет?
– Верю, – говорю я. – Всем хочется быть счастливыми. – В общем, на этот раз я с ним не поехал, даже когда он стал меня уговаривать.
– Глупости. Едем. А потом остановимся в Саратоге и поглядим на этот овраг, или гору, или откуда там ваш предок, иммигрант, этот самый Владимир Кириллыч Рэтлиф, перешел сюда на вашу родину.
– А он тогда вовсе и не назывался Рэтлиф, – говорю. – Мы и не знаем, как была его фамилия. Наверно, Нелли Рэтлиф, на которой он женился, не то что написать – и выговорить не могла, как его звали. Он и сам, наверно, не мог. Да и фамилия у них тогда была не Рэтлиф, а Рэтклифф. Нет, – говорю, – я не поеду, хватит и вас одного. Можете найти свидетеля подешевле, зачем приглашать меня – мне же не только надо оплатить проезд в оба конца, меня еще три раза в день кормить надо.
– Свидетеля чему? – говорит он.
– В такой важный момент ее жизни, когда она собирается официально или, во всяком случае, формально объединиться или, так сказать, скооперироваться с каким-то джентльменом, то есть с другом противоположного пола, как говорится по-умному, вы, наверно, едете, чтобы объяснить – кому она родня или, во всяком случае, кому она не родня, так ведь? – А потом я говорю: – Впрочем, она, наверно, все знает.
А он говорит:
– Как же иначе? Разве она могла девятнадцать лет прожить в одном доме с Флемом и все еще верить, что он ее отец, даже если это документально доказано?
– А вы ей ничего не сказали, – говорю. А потом я ему говорю: – Нет, дело обстоит гораздо хуже. Может, вдруг этот вопрос начнет ее тревожить, может, она к вам придет и попросит: «Скажите мне всю правду, ведь он мне не отец», – и тут она может всегда понадеяться на вас, знать, что вы ей ответите: «Ты ошибаешься, он тебе отец». – Теперь он уже не смотрел мне в глаза. – А что вы сделаете, если она задаст этот вопрос шиворот-навыворот: «Скажите, кто мой отец?» – Нет, он не смотрел мне в глаза. – Верно, – сказал я. – Этого она ни за что не спросит. Полагаю, что она не зря виделась с Гэвином Стивенсом изо дня в день и отлично понимает, что есть ложь, с которой даже он не станет бороться. – Он уже совсем не смотрел на меня. – Так что, видно, вы эту ее веру в вас ничем не нарушите, – говорю.
Приехал он через десять дней. И я подумал, что если б этот самый скульптор мог бы застать ее врасплох и выманить из кровати к алтарю или хотя бы в регистратуру, пока она не опомнилась и не сообразила, куда ее завели, может быть, тогда он – я про Юриста – был бы наконец свободен. А потом я понял, что даже думать об этом смешно. И как только я счистил с себя эту паутину дурацких надежд, я обнаружил, что уже много лет понимаю то же, что поняла Юла, как только увидала его: никогда он свободным не будет, потому что вся жизнь его в этом, и, если он это потеряет, у него ничего не останется. Я говорю про его преимущественное право, про его стремление вечно брать на себя полную ответственность за кого-то, кто никогда не устанет взваливать на него эту ответственность, а ему в награду даже косточки не бросит. И я вспомнил, как он мне тогда сказал, что она обречена на верность и постоянство – обречена полюбить раз в жизни и потерять его, а потом всю жизнь горевать, и я сказал, что быть дочерью Елены Прекрасной все равно, что быть, например, отставным папой римским или бывшим японским императором: ничего это ей в будущем не даст.
И теперь я понял, что он был почти прав, только слово «обречена» он не там поставил: не она была обречена, – с ней, должно быть, ничего не случится, – обречен был тот, кому она отдавала свою верность, свою единственную любовь, и тот, кто взял на себя всю ответственность и не только не хотел, но и не ждал взамен никакой косточки, – вот кто был обречен. И можно сказать, что из них двоих больше всего повезло бы тому, на кого обвалился бы потолок, когда он ложился спать или вставал с постели.
Но, конечно, он бы мне задал жару, если бы я попробовал хоть заикнуться насчет этого, так что здравый смысл мне подсказал, что лучше промолчать. И в конце концов я действительно удержался и ничего ему не сказал: во-первых, я старался поменьше его видеть, а во-вторых, боролся с искушением, как черт, вернее, как Иаков с ангелом [18], – а разве есть для живого человека большее искушение, чем сознательно упустить возможность потом заявить: «Ага, что я вам говорил?» А время шло и шло. Деревянную планку для ног уже прибили к камину, никто, кроме негра-привратника, ее не видел, – и все же в Джефферсоне об этом ходила легенда, после того как привратник рассказал мне, а я, да и он, наверно, рассказали случайно кому-то из друзей: так росла легенда о Сноупсе, так воздвигался еще один памятник Флему, наряду со всеми другими памятниками, которые возводились еще с той истории на электростанции, – мы так и не узнали, вытащены ли из водяного бака все пропавшие медные части, которые во время царствования Флема на этой станции прятали туда два запуганных до смерти негра-кочегара.
И вот настал тридцать шестой год, и времени оставалось все меньше и меньше. Муссолини в Италии, Гитлер в Германии и, конечно, как говорил Юрист, тот, третий, в Испании. И однажды Юрист мне говорит:
– Складывайте-ка чемодан. Завтра утром вылетаем из Мемфиса. Нет, нет, вы не бойтесь заразы, теперь вам можно с ними познакомиться. Едут в Испанию, сражаться в республиканской армии, и, наверно, он так долго ее грыз и терзал, что она наконец сказала: «Фу, пусть будет по-твоему».
– Так, значит, он вовсе не из этих либеральных, свободомыслящих передовых художников, – говорю, – значит, он – обыкновенный серый парень, который считает, что если с девушкой стоит спать, так стоит и заботиться о ней всю жизнь, чтобы у нее были и крыша над головой, и еда, а может, и немножко карманных денег.
– Ну, ладно, ладно, – говорит. – Ладно!
– Только поедем мы с вами поездом, – говорю. – Я вовсе не боюсь лететь самолетом, но просто когда мы будем проезжать через Вирджинию, я смогу увидеть то место, где этот самый иммигрант, наш первый Владимир Кириллыч, пробивал себе дорогу в Соединенные Штаты.
Я дожидался его на углу со своим чемоданчиком, когда он подъехал, открыл дверцу машины и посмотрел на меня, а потом, как говорят в кино, надвинулся на меня крупным планом в сказал:
– О, черт!
– Собственный, – говорю, – сам купил.
– Вы – и в галстуке, – говорит. – Да вы их никогда не носили, у вас, наверно, никогда в жизни галстука не было.
– Вы же мне сами сказали, – говорю. – Ведь там свадьба.
– Снимайте, – говорит.
– Не сниму, – говорю.
– Я с вами не поеду. Не хочу, чтобы меня с вами видели.
– А я не сниму, – говорю. – Это я даже не ради свадьбы. Понимаете, в первый раз на меня будут смотреть те края, откуда появился первый В.К.Рэтлиф. Может, я им хочу понравиться. Может, я не хочу, чтоб они меня стыдились.
Словом, сели мы на поезд в Мемфисе, а на следующий день проезжали Вирджинию – Бристоль, потом Роанок, Линчберг, потом повернули на северо-восток вдоль синих гор, и где-то впереди, мы точно не знали где, было то место, где первый Владимир Кириллыч наконец нашел прибежище, правда, мы даже не знали, какая у него была фамилия, а может, у него и фамилии не было, пока Нелли Рэтлиф – тогда писалось «Рэтклифф» – его не нашла, да мы вообще много чего не знали: как он затесался в ряды немецких наемников, в армию генерала Бергойна, которого побили при Саратоге [19], но только Конгресс отказался выполнить условия, на которых они сдались, и разогнал всю эту шайку-лейку, и они шесть лет подряд шатались по Вирджинии без денег, без еды, а многие, как тот первый Владимир Кириллыч, и без языка. Но ему ни то, ни другое, ни даже третье не понадобилось, чтобы попасть не только в тот поселок, куда нужно, но и именно на тот сеновал, где его нашла Нелли Рэтклифф, когда искала куриное гнездо или еще что. И никакие слова ему не понадобились, чтобы съедать то, что она ему тайком носила, – может, он и про работу на ферме первый раз услыхал, когда она его наконец привела к своим домашним, и, уж конечно, немного слов ему было нужно, чтобы события развернулись дальше – в тот день, когда ее папаша, или мамаша, или братья, кто бы там ни был, может, просто соседка, увидели, что у нее растет живот, – тогда они поженились и у того В.К. наконец законно появилась настоящая законная фамилия – Рэтклифф, а его потомок переселился в Теннесси, а потомок того – в Миссисипи, только к тому времени они уже писались «Рэтлиф», и старшему сыну в каждом поколении до сих пор дают имя «Владимир Кириллыч», и до сих пор он полжизни тратит на то, чтобы этого ни одна душа не узнала.
На следующее утро мы прибыли в Нью-Йорк. Приехали рано, еще семи не было. Что-то очень уж рано.
– Наверно, они еще и завтракать не кончили, – говорю.
– Кой черт! – говорит Юрист. – Они еще и спать не ложились. Это вам не Йокнапатофа, а Нью-Йорк. – Тут мы поехали в гостиницу, где Юрист заранее заказал нам номер. Только это был не номер, а три номера: гостиная и две спальни. – Можем тут и позавтракать, – говорит он.
– Позавтракать? – говорю.
– Нам подадут сюда.
– Это вам Нью-Йорк, – говорю. – Завтракать в спальне, или в кухне, или на задней галерейке я могу и дома, в Йокнапатофском округе.
Так что мы спустились вниз, в ресторан. Тут я говорю:
– Когда же здесь завтракают? В сумерки, что ли? А может, когда встанут, тогда и едят?
– Нет, – говорит. – А нам надо сперва сделать одно дело. Впрочем, – нет, – говорит, – два дела. – Он опять смотрел на это самое, хотя, надо отдать ему справедливость, он ни слова не сказал с той минуты, как я сел к нему в машину в Джефферсоне. И я вспомнил, как он мне когда-то рассказывал, что в Нью-Йорке климат не похож ни на какой другой климат в мире, но что бывает погода, словно специально придуманная для Нью-Йорка. И в тот день была именно такая погода: утро стояло сонное, голубое, теплое, как бывает ранней осенью, когда кажется, что небо само опускается на землю мягким таким, голубым туманом, а высокие здания летят в него и вдруг останавливаются, и все их грани растворяются, будто солнце не просто на них светит, а словно бы звенит, вот как провода поют. А потом вижу – вот оно: магазин, в нем громадная витрина и во всей этой витрине – один-единственный галстук.
– Погодите, – говорю.
– Нет, – говорит, – можно было терпеть, пока его видели только проводники в вагоне, но в таком виде идти на свадьбу нельзя.
– Нет, погодите! – говорю. Потому что я про эти нью-йоркские магазины на укромных улочках тоже кое-что слыхал. – Если целую витрину можно занять одним галстуком, так, наверно, за него сдерут доллара три, а то и все четыре.
– Ничего не поделаешь, – говорит он. – На то здесь и Нью-Йорк. Пойдем!
И внутри тоже ничего, только золоченые стулья, две дамы в черных платьях и господин – одет он был, как сенатор, или, на худой конец, как священник, и назвал Юриста запросто, по имени. А потом – кабинет, на столе – ваза с цветами, а за столом – невысокая полная смуглая женщина, и платье на ней, каких никто не носит, волосы с проседью и замечательные карие глаза, просто красота, хоть и чуть-чуть навыкате: она расцеловала Юриста, а он ей говорит:
– Мира Аллановна, вот это Владимир Кириллыч, – а она на меня посмотрела и что-то сказала, я сразу как-то догадался, что по-русски, а Юрист ей говорит: – Вы только взгляните. Только посмотрите, если сможете выдержать, – а я говорю:
– Честное слово, не такой уж он плохой. Конечно, лучше было бы желтый с красным, а не розовый с зеленым. Но все-таки… – а она тут говорит:
– Значит, вы любите красное с желтым?
– Да, мэм, – говорю. А потом говорю: – В сущности… – И остановился, а она говорит:
– Да, да, рассказывайте, – а я говорю:
– Нет, ничего. Я только подумал, что если бы можно было помечтать, представить себе галстук, а потом найти его и надеть, я бы представил себе такой весь красный, а на нем букет, нет, лучше один подсолнух посредине, – а она говорит:
– Подсолнух? – А Юрист объясняет:
– Гелиант. – А потом говорит: – Нет, не так. Турнесоль. Подсолнечник.
И тут она говорит:
– Погодите, – и сразу уходит, и тут уж я сам заговорил.
– Погодите. Даже пятидолларовые галстуки не окупят все эти золоченые стулья, – говорю.
– Поздно! – говорит Юрист. – Снимайте! – Но только тот, что она принесла, вовсе и не был красным, и подсолнуха на нем не оказалось. А был он весь в каком-то пушке. Нет, это неверно: когда его рассмотришь поближе, он становится похож на персик, понимаете, чем дольше смотришь и стараешься не мигать, тем больше кажется, что сейчас он превратится в настоящий персик. Но, конечно, не превращается. Просто на нем пушок такой, золотистый, как спина у загорелой девушки. – Да, – говорит Юрист. – А теперь пошлите купить ему белую рубашку. Он и белых рубашек никогда не носил.
– Никогда? – говорит она. – Всегда синие, да? Вот такие, светло-синие? Как ваши глаза, да?
– Правильно, – говорю.
– А как это получается? – говорит. – Они у вас выгорают? Или это от стирки?
– Ну да, – говорю, – просто стираю их, и все.
– Как стираете? Вы сами стираете?
– Он и шьет их сам, – говорит Юрист.
– Ну да, – говорю. – Я продаю швейные машины. Я и не помню, как научился шить.
– Понимаю, – говорит она. – Ну вот, этот вам на сегодня. А завтра будет другой. Красный. С подсолнечником.
Потом мы вышли на улицу. А я все порываюсь сказать: «Погодите».
– Теперь приходится покупать оба-два, – говорю. – Нет, я серьезно. Понимаете, я вас очень прошу, поверьте, что я вас совершенно серьезно спрашиваю. Как по-вашему, сколько может стоить, например, тот, что выставлен на витрине?
А Юрист идет себе, не останавливаясь, вокруг толпа, бегут во все стороны, а он так небрежно, через плечо, говорит:
– Право, не знаю. У нее есть галстуки и в полтораста долларов. А этот, наверно, долларов семьдесят пять…
Меня словно этак легонько по затылку треснули, я только опомнился, когда очутился в стороне от толпы, у какой-то стенки, стою, прислонился, сам весь дрожу, а Юрист меня поддерживает.
– Ну как, прошло? – говорит.
– Ничего не прошло, – говорю. – Семьдесят пять долларов за галстук? Ни за что! Не могу я!
– Вам сорок лет, – говорит. – Вы должны были бы покупать не меньше одного галстука в год, с тех пор как вы влюбились. Когда это было? В одиннадцать лет? В двенадцать? В тринадцать? А может, вы влюбились в восемь или в девять, когда пошли в школу – если только у вас была учительница, а не учитель. Но давайте считать – с двадцати лет. Значит, двадцать лет, по доллару за галстук каждый год. Выходит двадцать долларов. Так как вы не женаты и никогда не женитесь и у вас нет близких родственников, некому доводить вас до могилы своими заботами в надежде что-нибудь унаследовать, значит, вы можете еще прожить лет сорок пять. Это уже шестьдесят пять долларов. Значит, вы можете получить галстук от Аллановны всего за десять долларов. Нет человека на свете, который получил бы галстук от Аллановны за десять долларов.
– Ни за что! – говорю. – Ни за что!
– Ладно, – говорит, – я вам его дарю!
– Не могу я принят"! – говорю.
– Отлично! Хотите вернуться и сказать ей, что вам галстук не нужен?
– Разве вы не понимаете, что я ничего не могу ей сказать?
– Ну, ладно, – говорит, – пойдемте, мы и так уже опаздываем.
Мы пришли в какой-то отель и сразу поднялись в бар.
– Пока мы не дошли, – говорю, – может быть, вы мне объясните, с кем это мы должны встретиться?
– Нет, – говорит, – на то и Нью-Йорк. Я тоже хочу доставить себе удовольствие. – И через минуту, когда я понял, что Юрист раньше никогда этого человека в глаза не видел, я сообразил, зачем он так настаивал, чтоб я с ним поехал. Впрочем, я тут же подумал, что в этом случае Юристу не надобно было никакой помощи, ведь роднит же как-то людей обида, с которой человек двадцать пять лет подряд просыпается, как, наверно, просыпался он: с обыкновенной, простой, естественной тоской при мысли, что ему вообще надо просыпаться. И я говорю: