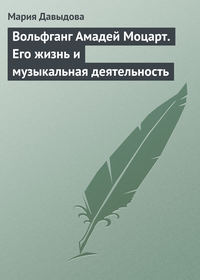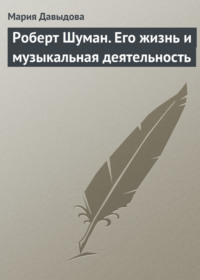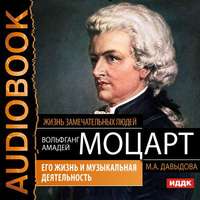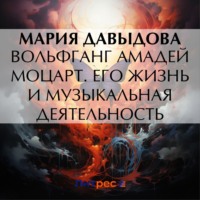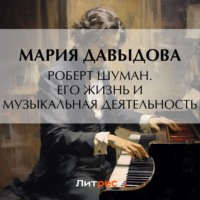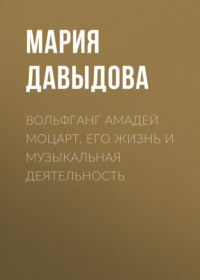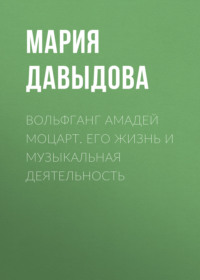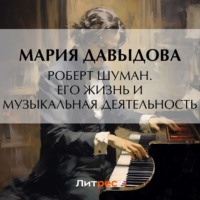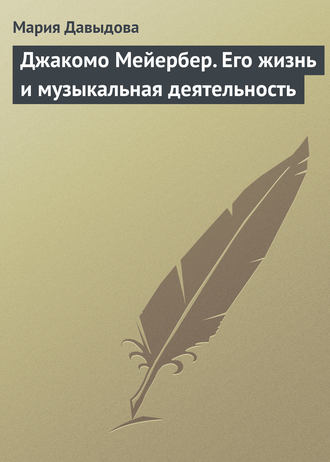 полная версия
полная версияДжакомо Мейербер. Его жизнь и музыкальная деятельность
В 1816 году Мейербер посетил Италию, где провел лучшие годы своей юности. Италия долгое время была полновластной музыкальной владычицей Европы: ее музыканты стояли во главе учреждений всех стран, ее мелодии раздавались во всех концертах и театрах; все подчинялось ее законам и ее оценке. В нее стекались музыканты со всех концов Европы для того, чтобы, забыв свою национальность, проникнуться итальянским духом и научиться писать итальянскую музыку.
Сила и значение итальянской музыки состояли в ее мелодичности. Но вскоре, увлеченные своим стремлением к наибольшей благозвучности, желанием дать возможность певцам блеснуть своей техникой и голосом, итальянские маэстро перешли за пределы художественной красоты, что и было главной причиной упадка значения итальянской музыки. Немецкая музыка или, скорее, опера, переняв у итальянской все ее хорошие свойства, стала постепенно освобождаться от ее владычества, от ее недостатков и начала проявлять свою самобытность: усвоив себе мелодичность, немецкая опера стала стремиться к наибольшей выразительности, к драматизму, глубине и художественной правде.
Вскоре ученица переросла свою учительницу и, опираясь на таких колоссов, как Моцарт и Бетховен, могла бы уже тогда занять то первенствующее значение, которое заняла впоследствии; но мода на итальянскую музыку еще не скоро прошла: петь по-немецки долго считалось дилетантизмом, а итальянский язык и мелодии продолжали раздаваться по всей Германии.
В это время в Италии, на темнеющем небе ее славы, взошло новое яркое светило в лице Россини, который вновь поднял упавший авторитет итальянской музыки.
Россини был сыном странствующего музыканта и певицы: его гений, миновав школу, вырос и развился на подмостках, где он выступал с самого раннего возраста в качестве певца. Этот замечательный гений-самородок проявился довольно поздно, в 17 лет, но засверкал такими пленительными, яркими красками, что сразу очаровал сердца своих соплеменников и покорил театры всех стран. В течение 10—12 лет Россини написал более тридцати опер, но затем в его творчестве наступил период затишья; между тридцатью – сорока годами Россини достиг апогея своей славы, и в том возрасте, когда обыкновенно у других дарование только начинает развиваться, он внезапно и навсегда прекратил свою композиторскую деятельность. В его творениях встречается немало погрешностей против правил, но все искупается силой и свежестью его дарования. Он хотел оставаться чем был, и во время своего пребывания в Германии сказал: «Немецкие композиторы требуют, чтобы я писал, как Гайдн и Моцарт. Но если бы я приложил все свои старания, то все-таки был бы плохим Гайдном и Моцартом. Так уж я лучше останусь Россини. Чем бы он ни был, он все-таки – нечто, и по крайней мере я – неплохой Россини».
Свободно развившийся гений Россини представлял собой крайнюю противоположность гению Мейербера, воспитанному в строгой дисциплине аббата Фоглера. Мейербер оказался в Италии в самый разгар славы Россини, только что выступившего со своей первой оперой («Танкред»), и тотчас же подпал обаянию его чарующих мелодий. Он предался изучению итальянской музыки со свойственной его натуре страстностью и дошел до того, что знал некоторые партитуры опер Россини наизусть. Роскошная природа юга, благоухающие лавры и миртовые деревья, чарующие мотивы пробудили в душе Мейербера новые чувства, вдохнули в нее поэзию и освободили его гений от тех оков, в которые его заключили строгие правила немецкой школы.
Вот что он сам пишет об этом времени д-ру Шухту: «Вся Италия в то время находилась в каком-то блаженном чаду: казалось, словно вся нация обрела наконец свой давно желанный рай и что для ее счастья не требовалось ничего другого, кроме музыки Россини. Я был невольно опутан этими чудными сетями звуков и попал в заколдованный сад, из которого не мог и не хотел уйти. Все мои чувства и мысли сделались итальянскими. После года, проведенного там, мне казалось, что я природный итальянец. Под влиянием роскошной природы, искусства, веселой и приятной жизни я совершенно акклиматизировался и в силу этого мог чувствовать и думать только как итальянец. Что такое совершенное перерождение моей духовной жизни должно было иметь влияние на мое творчество – понятно само собой. Я не хотел подражать Россини и писать по-итальянски, как это утверждают, но я должен был так писать, как я писал – в силу своего внутреннего влечения. <…> То обстоятельство, что я во второй период своего творчества был более склонен к итальянской мелодичности, станет понятно всем, кто примет во внимание, что я был слишком строго выдержан своими учителями на работах, требующих только рассудка; что живые чувства, подавленные сухими образцами, были пробуждены теплом Италии и пением ее соловьев. Понятно – я впал в крайность, впрочем, вызванную направлением школы и самой жизнью».
После трехлетнего изучения Италии и ее музыки Мейербер выступил с первым сочинением нового направления. Им стала опера «Ромильда и Констанца». Эта опера дана была в Падуе 19 июня 1818 года и имела порядочный успех. За нею следуют одна за другой оперы: «Маргарита Анжуйская», «Альманзор» и многие другие. Все они мало отличаются одна от другой: преобладание мелодии, лиризм и отсутствие драматизма составляют главную суть их характера. Новый стиль Мейербера выразился ярче всего в «Эмме Ресбургской» и в «Крестоносце». Их автор доказал, что он не только усвоил себе манеру итальянского письма, но вполне переродился сам. Он как будто забыл все премудрости, которыми немецкие учителя его так усердно начиняли; перестав думать о контрапунктах и фугах, молодой композитор все внимание сосредоточил на мелодиях, которые лились теперь прямо из души и не были, как прежде, продуктом сухого разума. Содержание «Эммы» основано на любовной интриге, музыка ее лирического характера – простая и ясная. Отсутствие драматизма обусловливается очень дурно составленным текстом. В «Крестоносце» заметно более серьезное направление, стремление к музыкальной характеристике. Обе оперы были встречены итальянской публикой восторженно и положили начало будущей славе их молодого автора. Они появлялись на всевозможных сценах, а «Крестоносец» даже совершил путешествие через океан и был поставлен в Соединенных Штатах и других государствах Америки. Король Бразилии прислал автору оперы местный орден. Только в Париже «Крестоносец» не имел успеха. Л. Крейцер, рассказывая о его первом представлении, передает следующий анекдот:
«В восхитительном квартете второго акта участвует ребенок (немая роль), сын Пальмиды, которого она приносит в дар султану в надежде смягчить его сердце. Этот младенец, проклятый Аполлоном, не любил музыки и не интересовался сценой. Было поздно, и он открыл рот, но не с тем, чтобы присоединиться к общему пению, а для того непроизвольного движения, от которого мы не можем удержаться, когда нас одолевает сон. Одним словом – ребенок зевает, и публика улыбается. Пальмида поет: „Сдержи свои слезы“ – второй зевок; „Небо сумеет тебя утешить“ – третий зевок, за которым следует беспрерывное зевание. Вся публика разражается хохотом. Певице невозможно довести роль до конца. Маленького варвара – невинную причину этого переполоха – спешат удалить».
Через несколько лет «Крестоносец» снова появился в Париже, где на этот раз он был оценен по достоинству. Гейне пишет о Мейербере по поводу «Крестоносца»:
«Чувственность, шумливая веселость итальянцев не могли долго удовлетворять немецкому характеру. В нем пробуждается тоска по серьезному духу отечества; пока он гостил под итальянскими миртами, его охватило воспоминание о таинственной прелести дубовых рощ Германии; под теплые ласки зефира он думал о суровых песнях северного ветра».
Хотя главная цель пребывания Мейербера в Италии и состояла в изучении стиля итальянской музыки, но его живой, любознательный ум не мог остановиться исключительно на одном предмете и продолжал обогащаться самыми разнообразными знаниями. Он знакомился с бытом народа, его литературой, историей. В Риме он изучал все великие памятники древности и благодаря аббату Баини мог наслаждаться всеми сокровищами библиотеки Ватикана. Роскошная природа юга немало содействовала духовному развитию Мейербера; по целым часам просиживал он в саду, под тенью лавров, отдаваясь всецело наслаждению природой, и с трудом отрывался от созерцания ее красот, чтобы вернуться опять к своим занятиям. Образ жизни он вел самый простой, не предаваясь ни излишествам, ни особым удовольствиям, свойственным его возрасту: общество, беседы просвещенных друзей были его лучшим развлечением, его отдыхом. Благодаря своему богатству и образованию он был принят в среде аристократов и интеллигенции. Его привлекательная внешность, изящные манеры, благородный характер, тонкий ум делали его желанным гостем всякого общества и покоряли бесчисленные женские сердца. Увлекался ли Мейербер так же часто, как увлекались им, – неизвестно. Скорее можно предположить, что нет: его душа была всецело поглощена одной любовью к искусству, которому он отдавал все свои силы и все свои помыслы. Тем не менее, несмотря на всю его сдержанность, ревнивые соперники не раз вызывали его на дуэли, которых ему удавалось избегать только с большим трудом. Так, его часто приглашала к себе одна прекрасная аристократка, вероятно, тоже неравнодушная к красивому, талантливому юноше. Мейербер, занимавшийся с нею музыкой и совершавший прогулки, в обращении был чрезвычайно сдержан, не желая возбуждать в ней напрасных надежд, тем более что ее родители не прочь были заполучить в зятья такого богатого и красивого юношу. Но однажды к нему является почти незнакомый ему маркиз и вызывает его на дуэль. Удивленный Мейербер спрашивает о причине, но маркиз не желает объяснять. Только после того, как Мейербер категорически отказался драться на дуэли, не зная, чем она вызвана, маркиз дал ему понять, что он был причиной охлаждения к нему этой дамы, на которой Мейербер, вероятно, женится. Мейерберу едва удалось убедить ревнивого маркиза в неосновательности его подозрений. Ему пришлось дать честное слово в том, что он не имеет никаких намерений относительно дамы сердца маркиза, в доказательство чего он обещал ускорить свой отъезд.
Этот случай был не единственный, и пламенные итальянки всех сословий преследовали молодого Мейербера нежными взглядами, пылкими объяснениями, стараясь всячески зажечь сердце этого непреклонного и тем более пленительного молодого человека. За свою недоступность ему иной раз приходилось платить дорогой ценой. Вот что он сам рассказывает д-ру Шухту:
«Когда я в 1818 году приготовлял свою оперу „Ромильда и Констанца“ к постановке в Падуе, то примадонна, с которой мне приходилось разучивать ее роль, забрала себе в голову выйти за меня замуж, если возможно, еще до представления, хотя я своим обращением не подавал ей никаких надежд. Так как я заметил ее явные намерения, то стал еще сдержаннее, но не подозревал, что это повлечет грустные последствия для моей оперы, тем более что генеральная репетиция прошла великолепно и возбуждала самые лучшие надежды. Наступил вечер; несмотря на то что это происходило в один из знойных июньских дней и что вечером еще царил удушливый жар, публика Падуи спешила в театр, чтобы ознакомиться с новой оперой молодого немца. Занавес взвился и – о ужас! Все певцы пели, как будто они в полнейшем изнеможении, как будто они все больны. Несчастие довершали флейтисты, валторнисты, трубачи и барабанщики. То трубач прозевает паузу и так грянет в свой инструмент в средине арки, что у всех в глазах потемнеет и в ушах зазвенит; то валторнист вступал не вовремя, и флейты начинали слишком рано и продолжали играть несколько тактов, прежде чем замечали свою ошибку; то опять барабаны и литавры начинали греметь, как ружейные выстрелы, и все не вовремя, возбуждая неумолкаемый смех публики, которая, однако, под конец утомилась от этих штук и начала всячески выражать свое неодобрение. Когда же я обратился к директору и участвующим за расспросами, то получил единодушный, общий ответ: „Духота, томительный жар не давали вздохнуть“. К сожалению, через некоторые итальянские газеты разнеслась весть о неуспехе моей оперы, с различными злорадными добавлениями. Что певцы и оркестр соединились против меня, было мне ясно сразу, но я не мог добиться – почему, так как я был ласков со всеми и они, казалось, были очень расположены ко мне. Только впоследствии узнал я от некоторых музыкантов, что примадонна, которая властвовала почти безгранично над всем составом музыкантов, возбудила всех против меня и даже грозила некоторым увольнением, если они не будут играть и петь, как она приказала. Тогда я понял, что это была месть отвергнутой любви».
Конец всем романическим недоразумениям и трагикомедиям положила женитьба Мейербера на кузине Минне Моссон, состоявшаяся в Берлине в 1827 году. Во время пребывания своего в Италии Мейербер получил заказ написать для берлинского театра оперу, которая была вскоре готова и получила название «Бранденбургские ворота». Но по неизвестным причинам ее постановка не состоялась.
Мейербер, заручившись известностью в Италии, что, как ему казалось, обеспечивало ему успех на родине, вернулся в Берлин, исполненный надежд на сочувственное отношение немецкой публики к его обновленному творчеству. Но его ожидало одно из самых горестных разочарований: если первые его произведения были приняты публикой и критикой холодно, то его итальянские оперы были встречены враждебно. Немецкая опера, только что избавившаяся от гнета итальянского владычества благодаря гениям Глюка и Моцарта, уже определила свои задачи, свое направление, выработала художественные идеалы, которые стояли несравненно выше идеалов итальянской оперы, впавшей в рутину; поэтому обращение молодого немецкого композитора к принципам итальянской школы было принято критикой за измену национальному искусству. Его встретили как отступника, в его музыке видели одно слепое подражание Россини, и даже друг его Вебер, хотя разучил и с трогательной самоотверженностью поставил на дрезденской сцене «Эмму Ресбургскую» (под названием «Эмма Лейчестер»), но на следующий день после представления писал Лихтенштейну: «Сердце мое обливается кровью при виде того, как немецкий артист, одаренный громадным талантом, ради жалкого успеха у толпы унижается до подражания. Неужели уж так трудно этот успех минуты, я не говорю – презирать, но не рассматривать как самое великое?»
Единодушные ожесточенные нападки критики глубоко огорчали Мейербера и заставили его призадуматься: его художественное чутье подсказывало ему, что он отчасти впал в крайность, что он может быть больше, чем простым подражателем. Он перестал писать итальянские оперы и упорно отвергал все многочисленные заказы различных итальянских театров. К артистическим огорчениям присоединилось семейное горе: Мейербер потерял горячо любимого отца и одного за другим двух старших детей. Эти потери так сильно потрясли Мейербера, что он впал в глубокое уныние, парализовавшее на долгое время его творческую силу. В продолжение восемнадцати месяцев он не мог оправиться от поразившего его удара и не был в состоянии писать ничего иного, кроме духовной музыки, которая одна могла успокоить боль его душевных ран. Музыкальными плодами его скорби явились двенадцать псалмов, восемь песен на стихи Клопштока и множество кантат религиозного содержания. Его скорбь была настолько глубока, что, будучи стариком, он не мог вспомнить этого времени без горестного волнения и говорил: «Эти смерти лишили меня надолго творческой способности… Я находил единственное утешение в сочинении духовных песен и в изучении древней церковной музыки, которая одна только была в состоянии успокоить мою глубокую скорбь. Об операх я уже больше не думал».
Чтение, занятия и путешествия исцелили наконец его душевный недуг и вернули его к творческой деятельности. В это время он надолго покидает дважды отвергнувшую его Германию, где ему пришлось перенести столько горьких утрат, и переселяется окончательно во Францию, ставшую впоследствии его вторым отечеством, отечеством его славы.
Глава IV. Переселение во Францию
Причина переселения. – Париж. – Жизнь Мейербера. – Поиски либреттиста. – Скриб. – «Роберт-Дьявол». – Содержание оперы. – Препятствия к постановке. – Успех. – Различные случаи во время первого представления. – Популярность «Роберта-Дьявола». – Немецкие критики.
Приезд Мейербера в Париж был вызван вторичной постановкой там его «Крестоносца». Эта опера, лучшая из его опер итальянского периода, положила начало всемирной славе композитора: она совершила настоящее триумфальное шествие по Италии, где все наперерыв старались оказать ее автору знаки внимания и уважения; свои восторги публика перенесла даже на мать композитора, присутствующую на этих торжествах; ее осыпали цветами, лавровыми венками и восхваляли в восторженных стихах как счастливейшую из матерей, родившую такого гениального сына. Но «Крестоносец» был принят в Париже в первый раз довольно холодно. После этого прошло несколько лет, и во время вторичной постановки «Крестоносца» в Париже во главе оперного театра стоял прославленный и несравненный Россини, с которым Мейербер познакомился еще в Италии. Россини, оказывавший всегда большую поддержку молодым талантам, пригласил Мейербера приехать в Париж, чтобы дирижировать самому своей оперой. Мейербер с радостью принял это предложение, и так как жизнь его в Берлине была отравлена грустными воспоминаниями и постоянными несправедливыми нападками критики, то он решил поселиться в Париже (1827 год).
В то время Париж представлял собою центр, в котором кипела самая разнообразная и интересная умственная жизнь. В парижских салонах политика сменялась музыкой, музыка – литературными беседами; в изысканном обществе этих салонов можно было встретить Адама Мицкевича, Шатобриана, Ламартина, Гейне, Галеви, Обера, Крейцера и многих других светил поэзии и музыки, присутствие которых делало для Мейербера его пребывание в Париже особенно заманчивым. Он поселился на улице Вивьен, в Hôtel Bristol, и вскоре его роскошное помещение стало одним из самых посещаемых и любимых мест, где собирались все лучшие представители блестящего Парижа. Сам гостеприимный хозяин чувствовал себя особенно хорошо среди своих избранных друзей. Жизнь веселого города как нельзя более отвечала вкусам Мейербера: его глубокий, разносторонний ум находил себе здесь обильную пищу, его музыкальная деятельность – широкое поприще, его оскорбленное самолюбие – удовлетворение. Его душевные раны стали понемногу заживать, и скоро он вышел из той замкнутости, в которую его заключила скорбь об умерших родных; кипучая жизнь Парижа втянула Мейербера в свой водоворот: он посещал итальянские представления, оперу, комическую оперу – одним словом, принимал живое участие во всех проявлениях умственной жизни.
Но его творческая деятельность никак не проявлялась. Многие думали, что развлечения и другие соблазны Парижа заглушили на время его гений; но они ошибались: Мейербер никогда не увлекался низменными удовольствиями, всегда стремясь только к духовным наслаждениям, и в то время как его обвиняли в рассеянной жизни, он неутомимо, хотя незримо для постороннего глаза, продолжал трудиться и идти вперед по указанному ему его гением пути. Он проникался духом французского народа и, уже знакомый с немецким и итальянским стилем, теперь со свойственной ему страстной энергией изучал французскую музыку в ее лучших образцах, стараясь усвоить ее своеобразный ритм, ее элегантность и блеск. В то же время в нем самом происходила усиленная внутренняя работа: его потрясенная натура успокаивалась, складывалась, сосредоточивалась и определялась, выясняя все больше и больше настоящий характер и направление его гения. «Я долгое время искал и писал, – говорит он сам, – прежде чем нашел свою индивидуальность и присущий мне род творчества; прежде чем я нашел, что история и сильные драматические характеры составляют мой настоящий элемент». Уяснив себе призвание своего творчества, Мейербер должен был решить еще одну очень трудную задачу – найти подходящего либреттиста. Хороший либреттист и в наше время редкое явление: помимо того, что он должен обладать большим знанием сцены и многими другими весьма трудно сочетаемыми в одном лице качествами, от него еще требуется полное самоотвержение и подчинение своей воли, своих вкусов намерениям его музыкального соавтора. Крупным поэтам неохота снисходить до такой трудной и вместе с тем неблагодарной работы, так как имя автора текста поглощается именем композитора; мелким дарованиям часто недостает многих качеств, необходимых автору оперного текста: мелодичности, сжатости, выразительности стиха, художественного чутья, способности создавать сильные характеры и эффектные положения. Между тем текст имеет громадное влияние на работу композитора, на его вдохновение, и потому хорошие либреттисты всегда составляли предмет их особых забот. Мейербер пишет по этому поводу:
«Я истратил много, очень много денег на либретто, и по большей части даром. Как часто я обращался к тому или другому поэту в надежде и уверенности, что он напишет мне хороший текст. Я вступал с ним в переговоры, советовался, обещал ему большое вознаграждение, платил высокий гонорар и получал произведения, совершенно непригодные. Таким образом я заказал и оплатил по крайней мере с дюжину либретто, которых я не мог употребить». Случалось, что он заказывал одно либретто сразу двум стихотворцам и принужден был возвращать работу обоим. «Поэты того времени, – пишет он д-ру Шухту, – даже Гете, были слишком низкого мнения об опере, они не доверяли ни ей, ни сочинителям; менее всего считали ее способной сделаться большой, захватывающей драмой; еще менее могли предположить, что она может изображать всемирные события, героические характеры и рисовать их с психологической правдой. Они считали оперу пригодной лишь к изображению домашних сцен; любовные истории, колдовство и весь мир суеверия со всеми добрыми и злыми духами – вот что, по их мнению, было главным содержанием оперы. Исполнить более крупную, драматическую задачу – на это они ее не считали способной. Это низкое мнение было в то время всеобщим и держится еще до сих пор. Большинство наших драматических писателей смотрит на нас с высоты своего величия с некоторым сожалением и считает оперу пустой забавой, украшенной всякими прелестями; некоторые забываются до того, что говорят о „щекотании ушей“. В этом закосневшем убеждении они продолжают упрямо пребывать, не обращая никакого внимания на наши стремления. Еще менее труда они себе дают на изучение действительно хорошей оперы, чтобы увидеть, как музыка могущественна, с какой правдой передает она все душевные движения, все чувства, и даже подробнее и глубже, чем это возможно словами. Еще худшего мнения эти господа о музыкальном изображении характера. Что можно посредством музыки создать настоящие, живые характеры и изобразить весь строй мыслей и чувств, это выше их понимания. Многие из них очень мало или вовсе музыкально не образованны, для того чтобы оценить вполне большую, глубоко задуманную оперу. Отсюда их неверные взгляды и неправильная оценка. Последняя происходит также от уверенности в едином господстве драмы. Для этих господ опера – только игрушка, драма же призвана выражать идеи духа и изображать героев. Могут ли поэты с подобными воззрениями написать хорошее либретто?»
Наконец после долгих поисков Мейербер нашел Скриба, дарование которого вполне отвечало требованиям и дарованию самого Мейербера, духу его музыки, стремящейся равно как к изображению сильных характеров, так и к созданию внешних эффектов.
«Этот дьявол (Скриб), – пишет о нем Лист, – мог быть схвачен только музыкальным гением, который в понимании акустических эффектов, в инструментовке, в гармонии, в приложении и комбинации масс и отдельных лиц так бы был опытен, как Мейербер. Любовь этого последнего к натянутым и блестящим, чарующим, одуряющим впечатлениям подходила Скрибу. Он питал такое же пристрастие к сильным контрастам, неожиданным противоречиям, кричащим сопоставлениям, как и Скриб, прибегал, так же как он, к мишурному блеску, чтобы ввести в музыку чуждые ей доселе элементы, при посредстве которых можно бы было ярче оттенять в опере светлые и темные стороны драмы».
В 1830 году, после почти пятилетнего перерыва, композиторское дарование Мейербера вновь проявляет себя, и вновь иначе, чем прежде. Начинается третий – последний и самый блестящий – период его творческой деятельности. Произведения этого периода принесли Мейерберу всемирную славу, к которой он так горячо, так долго стремился. Его эластичное дарование, сумевшее быть по очереди немецким и итальянским – двумя крайностями, позволило ему усвоить и французский стиль: к немецкой серьезности, вдумчивости, к итальянской мелодичности и чувствительности он прибавил французское веселье, элегантность и блеск; но пока он еще не умел связать этих разнородных элементов, соединить их в одно целое; поэтому в «Роберте-Дьяволе», первом произведении французского периода, конкретные особенности всех трех стилей слишком заметны.