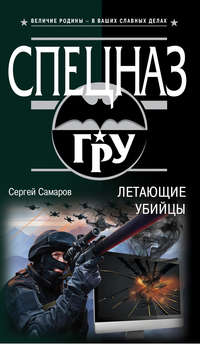Полная версия
Огненный перевал
Это я, уже к своим солдатам обращаясь, добавил. Зашевелились сразу, стали свои рюкзаки прощупывать и складывать, как из кирпичей, удобное мягкое место для женщины. У меня солдаты дисциплинированны, и повторять им команду необходимости обычно не возникает.
– Вообще-то ей еще месяц ходить… – хмуро сказал Павловский. – И не надо было ее устраивать. Посидела бы и так. Ничего с ней не сделается… А малыш только крепче будет…
– Чингисхан, я слышал, родился, когда его мать скакала в седле и отстреливалась от врагов из лука. Неплохой вояка получился… – я своей усмешкой то ли поддержал, то ли осудил его. Он не понял это, точно так же, как и я сам не понял, что хотел выразить. Хотя я и не старался голову себе ломать за разрешением ситуации. Их личные взаимоотношения никак не должны касаться меня, мне, дай бог, с собственной бы женой все уладить…
Мы с капитаном Павловским только при посадке познакомились. И я не знал, то ли он по жизни настолько смурной, что свою жену хронически ненавидит, то ли есть какие-то весомые причины, чтобы так себя вести. Но причины могут быть разными и частыми, а вести себя все равно следует по-человечески. Причины всегда внешние, а сущность у человека внутри живет. И надо на свою человеческую сущность ориентироваться, а вовсе не на то, как служба продвигается или на взаимоотношения с командиром, который прикрикнуть любит. Впрочем, я не любитель со своей колокольни в чужую жизнь заглядывать. Пусть сами разбираются. И не судья, чтобы кого-то осуждать, кто не имеет ко мне прямого отношения.
– Из-за нее все… – в сердцах сказал капитан.
– Что? – не понял я.
– Все эти неприятности с вертолетом… Она на себя всегда все неприятности собирает. Характер такой гадкий. Сама все всегда обгадит, и ей ответ приходит. Эта стерва гордится тем, что она стерва… Говорит, такой характер сейчас в большой моде…
– А она знает, что само слово значит? – с усмешкой поинтересовался я.
– Что? – спросил капитан, тоже с русским языком не слишком знакомый.
– Это производное от древнеславянского слова «стерво» – то есть падаль, вонючая туша падшего животного…
– Вот-вот… Похоже… – согласился Павловский. – Мне иногда кажется, что ее слова падалью пахнут. И в душу ей не заглянуть, потому что нет у нее души…
Он, кажется, попытался найти во мне исповедника. Пардон, но это совсем не моя стезя. Для этого есть особая категория людей. Я, если и выслушиваю исповеди, то только от своих солдат, чтобы поддержать их дух. Это моя прямая обязанность как командира, хотя не скажу, чтобы солдаты часто желали исповедоваться.
– По этому вопросу обратитесь к священнику… – кивнул я на священника, смиренно и спокойно сидящего на своем месте. Хотя относительно смирения я, кажется, слегка загнул. Физиономия этого священника совсем не говорит о смирении, хотя опущенные глаза и поза якобы дают право так подумать.
– Я атеист, – всерьез возразил наивный капитан. Давно я уже не слышал серьезных разговоров на эту тему. – Убежденный…
– И глупо… – не стал я вступать в спор и, чтобы прервать последующие попытки, сразу прошел на свое место. Пограничник сидел у противоположного борта, и ему пришлось бы просто кричать, чтобы я его услышал. При крике ворчливые нотки звучат несерьезно, поэтому я понадеялся, что беседа не продолжится.
Пусть капитан со своими коллегами-пограничниками побеседует. Зря, что ли, с нами летят два старших лейтенанта и один лейтенант пограничной службы.
* * *Если капитан-пограничник свои семейные проблемы, похоже, решает постоянно, страдает от их нерешенности, но решить до конца пока не может и едва ли когда-нибудь сможет, судя по состоянию его жены, то мне свои семейные проблемы решать еще предстоит. И пусть это звучит банально, но хотя бы первые строчки «Анны Карениной» стоит писать на дверях ЗАГСа,[5] чтобы люди перед тем, как подать заявление, все же еще раз подумали. Впрочем, и это, наверное, будет бесполезной тратой усилий, потому что люди всегда склонны думать, что нечто плохое происходит только и исключительно с другими, а уж они-то проживут счастливо и благополучно многие годы и ни с какими проблемами не столкнутся.
Столкнутся… Все сталкиваются без исключения…
И слава богу, что моя жена не имеет возможности приехать ко мне в палаточный городок, в котором квартируется наш батальон, и уж тем более на перевал, где палатки и размером поменьше, и вообще могут простреливаться со стороны гор, на которые, правда, еще забраться следует, а это не просто. Но она не приедет, и это я знаю точно. Она никуда со мной и за мной ехать не желает, потому что для нее городская толкотня и суета вкупе со стандартным набором удобств в виде душа и унитаза – это смысл жизни, а без этого для нее любая обстановка граничит с тюремной. Женился я на последнем курсе училища, и тогда вроде бы не стоял вопрос о месте проживания. Мы просто как-то старались не говорить на эту тему, мягко обходя свое будущее стороной, вроде бы подразумевая что-то, но не обсуждая детали. А потом меня отправили служить в гарнизон, в небольшой райцентр, и жить пришлось в военном городке неподалеку от этого райцентра. И для женатого лейтенанта даже комната нашлась в панельно-щитовом доме, который зимой следовало утром и вечером топить углем, похожим на земляную пыль, но это не избавляло дом от холода. Жена держалась два месяца. И все… Она не ругалась, она почти ничего мне не высказывала, разве что удивленные вопросы задавала. А потом она просто уехала, когда я был в командировке, и позвонила только тогда, когда я вернулся. Поставила меня в известность, что в военном городке жить никогда не будет. К тому времени она была уже беременна, и я своего сына сумел увидеть впервые только в отпуске через несколько месяцев. Кажется, через восемь… Естественно, я понимал, что после родов, да еще с новорожденным сыном жена приехать ко мне была не в состоянии. Но могла бы приехать хотя бы через полгода… Обида, конечно, была, но я не такой человек, чтобы показывать свою обиду. У меня иное представление о достоинстве и мужской чести. И шестой год почти супружеской жизни уже подходит к концу, а я сам себя иногда спрашиваю: что же за человек моя жена и чем так уж плох я сам, что не могу ее удержать, когда другие офицерские жены со своими мужьями удерживаются, несмотря ни на какие бытовые и прочие условия… И кто виноват – я или она? – в том, что совместная жизнь у нас не получается…
Еще я иногда спрашиваю себя более конкретно: а женат ли я вообще после первых нескольких месяцев, может быть, после первого года семейной жизни… И не могу дать на этот вопрос однозначный ответ даже самому себе.
Жену и сына я видел только в отпуске. Но всегда высылал им деньги, оставляя себе необходимый минимум на жизнь. Я не алименты платил, я большую часть зарплаты отсылал. Как отсылал бы настоящей жене… А за эти годы я уже как-то постепенно и отвык считать ее настоящей женой. Я не знал, как живет она там, без меня. И она не интересовалась, как я без нее живу… Ни разу не прозвучало ни одного вопроса – значит, ей было все равно. Я ничего не знаю про нее, она ничего не знает про меня. Все прекрасно, мы живые люди, но нормальному живому человеку тоже хочется иметь семью. И мне хотелось бы иметь тот самый банальный очаг, который я защищаю, когда нахожусь на службе. А служба у меня не учебная, а самая что ни на есть боевая, не менее боевая, чем в ракетных войсках стратегического назначения. И даже более… Потому более, что ракетные войска постоянно только на дежурстве, а мы воюем по-настоящему… Сейчас, конечно, не так, как два года назад, и уже совсем не так, как пять лет назад, но тоже… Я защищал свой очаг. Реальный очаг, а вовсе не гипотетический. И мне хотелось бы иметь нормальную жену, которая ждала бы моего возвращения именно около этого очага. Реальную жену, а не женщину, к которой намереваешься заглянуть по возвращении. А мне все последние годы приходилось обходиться только этим…
Я оттягивал решение семейного вопроса до тех пор, пока не появилась у меня женщина, которая моего возвращения ждала по-настоящему и к которой меня тянуло вернуться… А когда она появилась, более того, когда она сообщила мне, что ждет ребенка, мне уже следовало дело не оттягивать и в первый же отпуск не только договориться с женой, которую я уже стал мысленно считать бывшей, но и оформить все документально. Первым шагом, еще до объяснения, стал финансовый. Если раньше я высылал почти семьдесят пять процентов жалованья, оставляя себе только двадцать пять процентов, то в этот раз я поступил наоборот. И уже здесь, в горах, где нет сотовой связи, получил целых три радиограммы. Все три напоминали о деньгах. Нам шлют, конечно, телеграммы. Но телеграммы, когда приходят в батальон и не застают адресата, переправляются дальше уже по рации, то есть принимают вид радиограмм. И вся эта корреспонденция, естественно, не может миновать узел связи. То, что становится известно радистам из пришедшего открытым текстом и без грифа секретности, дураку понятно, становится известно всем… И даже новый наш командир роты капитан Полуэктов поинтересовался у меня между делом:
– У тебя какие-то финансовые проблемы в семье?
Объяснять я, естественно, не стал. Ответил просто:
– Решаемые…
В самом деле, совсем не командир роты должен решать мои семейные вопросы. Вот потому мне и необходимо было съездить в отпуск, чтобы эти проблемы решить кардинально.
Я не многого хочу. Я просто желаю жить нормальной жизнью – семейной. И для меня это вовсе не выглядит банальным.
* * *Мне все меньше нравилось поведение вертолета. Не поведение вертолетчиков – экипаж был опытный и вовсе не походил на команду классических самоубийц, но вертолет трясло все сильнее и сильнее, временами истерично сильно, и это понравиться не могло никому. Мы опять начали набирать высоту, что только усиливало тряску и увеличивало вибрации корпуса. Должно быть, ущелье внизу оказалось излишне извилистым для такой неповоротливой машины. Лететь над дном такого ущелья – это все равно, что гонять на большегрузном грузовике по узким улицам исторического центра Москвы. Рисковое даже для опытных вертолетчиков занятие… А летать выше при нынешних погодных условиях занятие рисковое для вертолета…
Но заходить лишний раз в кабину к пилотам и нервировать их в момент напряженной работы, тем более что помочь я ничем не могу, но могу только помешать, я не нашел нужным. И без того мужики в потном напряжении сидят… На них ответственность не только за себя и за машину, на них ответственность еще и за наши жизни…
Как на мне ответственность за солдат моего взвода…
В отсеке, грубо называемом салоном, царил полумрак. За иллюминаторами тучи всей округе радостей жизни не давали, не пропускали ни единого лучика солнца, а тусклые лампочки бортового освещения были не в состоянии осветить весь отсек так, чтобы можно было рассмотреть лица солдат, сидящих от меня вдалеке. Но ближних я все же видел, и уже по этим нескольким лицам был в состоянии определить общее настроение во взводе. Да это настроение нетрудно было и предугадать. Солдаты тоже не слепые и не глухие и видят, что создалась экстремальная ситуация. Но служба в спецназе приучает в экстремальных ситуациях вести себя спокойнее простых людей, нашей обыденной жизни вообще никогда не нюхавших. Для любого человека уличная драка – это или трагедия, или праздник, в зависимости от характера и конечного результата, но всегда происшествие достаточно редкое и экстремальное. У нас занятия по рукопашному бою всегда ведутся в полный контакт. Умеешь бить, умей и терпеть… То есть экстремальная ситуация для гражданского человека – она у нас явление будничное и входит в расписание занятий. И потому солдаты спецназа готовы к любому повороту событий и умеют себя вести правильно, просчитывая последствия. В самом деле, случись паника, начни они метаться, и вертолет вообще может оказаться неуправляемым. Но они понимают, как мало сейчас зависит от них самих и от их усилий, сидят молча, по сторонам поглядывают, и только глаза выдают легкую обеспокоенность. Так бывает в засаде, когда не знаешь, какие силы противника выйдут на тебя, но тебе любым способом следует перекрыть дорогу и никого не пропустить.
И я старался своим видом вселить в них спокойствие. Солдаты всегда на командира в первую очередь смотрят. Как он себя ведет, так и они будут…
Но капитан Павловский все же не выдержал, пошел-таки к вертолетчикам. Но оглянулся на меня, зная, как обычно нелюбезно относятся вертолетчики ко всем мешающим им работать, и понимая, что, когда двое заходят в кабину, это уже не вызывает такого возмущения. По крайней мере, с двумя офицерами не будут так резко разговаривать, как с одним, принимая его за явного паникера. Но я не пошел. Я сам прекрасно понимаю, как мешал бы мне кто-то во время активной фазы обоюдоопасного боя, задавая вопросы о конечном итоге. Я бы такого любознательного мог в пылу схватки и пристрелить. Тогда Павловский на священника посмотрел. Но тому, похоже, было не до капитана, потому что священник сидел как раз под одной из немногих лампочек отсека, и это позволяло ему читать какую-то маленькую наладонную книжицу. Думаю, это был не детектив… Я видел такую книжицу у кого-то из своих солдат. Кажется, это был «Псалтирь»…
Павловский скрылся за дверью, а я предпочел с удовольствием дожидаться его возвращения, потому что легко мог представить себе физиономию капитана после услышанных в свой адрес слов. А какими будут слова вертолетчиков, я догадывался. Мы уже заглядывали в эту кабину, чтобы выяснить ситуацию. Выяснили. Что еще надо? Если будут кардинальные изменения, нас не забудут и обязательно что-то сообщат. Может быть, сообщат, когда и куда необходимо будет соломки под тяжелую задницу вертолета подстелить, чтобы мягче падать было…
Но капитан вернулся, к моему удивлению, вовсе не растерянный. Выглянул из дверей с серьезным, я бы так сказал, «рабочим» лицом, посмотрел на меня и сделал приглашающий жест. Поскольку дверь в кабину он не закрыл, намереваясь, кажется, туда вернуться, это следовало понимать как поступление дополнительной информации от пилотов.
Я поспешил на зов…
* * *– Лагерь внизу… – прокричал капитан Павловский из междверного тамбура даже громче, чем того требовала шумовая обстановка полета.
– Какой лагерь? – не сразу понял я, но, задав вопрос, уже догадался, что никакого иного лагеря, кроме лагеря готовящихся к прорыву боевиков, здесь быть не может, того самого лагеря, о вероятном существовании которого нам уже докладывала разведка, и, отстранив капитана плечом, шагнул в кабину первым. Павловский, несмотря на тесноту, сунулся за мной следом.
Немолодой внешне майор, командир экипажа, коротко глянул на меня, узнал, потому что летал со мной уже трижды, снял с головы второго пилота наушники с микрофоном и протянул мне. Командир не любил кричать, и потому в его спокойствии чувствовалась уверенность. Приятно с такими людьми иметь дело.
Я мигом натянул наушники на голову.
– Твой профиль, старлей… – сказал майор. – Мы только что пролетели над лагерем боевиков. Большой лагерь. Я таких пока не видел.
– Сколько человек? – сразу спросил я.
– Я не разведчик. Навскидку даже приблизительно сказать не могу. Склон лесистый… Мы сначала дымки костров увидели. Жгут, не стесняются.
– Здесь жилья поблизости нет?
– По карте – ни жилья, ни дорог… Здесь нет даже вертолетной трассы… И мы сюда случайно попали, от грозы спасаясь…
– Значит, дымы увидеть некому.
Я продвинулся дальше, стараясь посмотреть за вертолетный «фонарь».
– Уже пролетели, – пояснил майор.
– Вернуться нельзя? – напрямую спросил я.
– Можно. Есть такая острая необходимость?
– Есть. Мы ждем эту самую, должно быть, банду на перевале. И не знаем ее сил… Надо произвести разведку и доложить координаты. Пусть обработают их «НУРСами»…
– Добро. Видимость там более-менее. Гроза здесь уже погуляла, и воздух чистый. Спустись к штурману.
Я показал на кабель, соединяющий наушники с креслом второго пилота. Командир экипажа сам отсоединил наушники.
– Подключись в кресле штурмана.
До самой нижней наблюдательной точки в пилотской кабине пять ступеней вниз и, согнувшись, два коротких шага вперед. Преодолев их, я чуть не на колени к штурману сел, потому что места внизу было мало – не то что в футбол, в карты не поиграешь. Вертолет тем временем замер на месте и начал плавно разворачиваться. Из кабины штурмана хорошо было видно не только грозовое небо впереди и, после разворота, еще более грозовое небо позади, но и землю под вертолетом. Я даже удивился, в какой опасной близости от склона мы пролетали. Чуть дрогни рука пилота, держащая рычаг управления, и винт заденет стволы деревьев или скалы. Пилоту нужно очень четко ощущать габариты своей машины…
Штурман меня ждал, и потому сразу подсоединил систему связи.
– Возвращаемся, старлей. Будь внимателен. Пролетим дважды, туда и обратно. Вместе с первым пролетом – это три раза. И постарайся увидеть все. Четвертого раза не будет – опасно, потому что за четвертым обязательно будет пятый, чтобы на курс выйти… И они могут уже подготовиться. У нас днище не бронированное – мы же транспортники, три-четыре пулемета, и с такой короткой дистанции просто перестреляют твоих мальчишек…
А я уже видел впереди на склоне огни трех больших костров, но костров было больше, потому что дальше виднелись косо идущие вдоль склона расширяющиеся столбы дыма – так их ветром заворачивало – воронкой…
Подсчитать столбы дыма… И глянуть хотя бы на один из костров поближе, чтобы приблизительно определить количество людей…
2. Капитан Вадим Павловский, пограничник
Значит, банда есть в действительности, и она нашлась…
Эта весть радовала, она уже несла какую-то определенность в неопределенное положение последней недели, а определенность, даже если она опасная, всегда лучше неопределенности, когда не знаешь в действительности, чего тебе ждать.
О том, что где-то неподалеку бродит большая банда, готовящаяся к прорыву, у нас в погранотряде знали по данным спецназа, занявшего перевал, и по полученным из Москвы сводкам, опять же опирающимся на эти же данные. Спецназ ГРУ предупредил нас, требуя от погранвойск повышенной боевой готовности, – не знаю уж, почему так настойчиво, словно мы их последняя надежда. Приказать разведчики не могли, поскольку мы разные ведомства представляем, но настойчивость проявляли непривычную. Может быть, не надеялись, что смогут перевал удержать, если банда будет очень большая? Или просто боялись, что бандиты пройдут к границе другим путем? Хотя других путей здесь, кажется, нет и не предвидится. Правда, повышенная боевая готовность тем и отличается от полной боевой готовности, что при повышенной не отменяют отпуска и командировки, тогда как при полной боевой уехать со службы можно только в случае крайней необходимости. Но данные были получены и приняты не просто к сведению, а и к исполнению, поскольку прямой и вполне конкретный, если не сказать, что жесткий приказ из Москвы дублировал рекомендации разведчиков.
И потому я, естественно, как представитель командования погранотряда здесь, на борту, был заинтересован в результатах воздушной разведки не меньше, чем этот старший лейтенант спецназа. Узнать хотя бы приблизительно силы боевиков. Тогда можно было бы основательно подготовиться к встрече и как-то планировать свои действия. Это одинаково относилось и к спецназовцам, и к нам. Причем для нас, если спецназ не сможет удержать перевал, это грозило очевидными трудностями, не знакомыми спецназу, поскольку разница в нашем с ними положении выливается в разницу протяженности охраняемого участка примерно одинаковыми силами. Конечно, не совсем одинаковыми, тем не менее не настолько разнящимися, как разница продолжительности охраняемого участка. У нас своя специфика и свои методы работы. Удержать или даже ликвидировать группу в несколько человек при переходе границы можно, но сложно, и чаще это не удается, чем удается. Я не служил во времена Советского Союза, когда вся внешняя граница громадного государства, включая каменистые горы и песчаные дюны и исключая только моря и океаны, была обнесена колючей проволокой в три ряда. Помимо того вся граница была напичкана разного рода сигнализацией, которая сразу давала знать, если где-то появится с той или с иной стороны предполагаемый нарушитель. Тогда вот перейти границу действительно было почти невозможно. Сейчас не так. Сейчас ни колючей проволоки, ни контрольно-следовой полосы из просеянного мелкого песка. А если бандиты еще и опыт имеют, то это дело практически почти невыполнимое. Это я знаю лучше других. Просто невозможно предугадать, где и каким путем они на другую сторону двинут, потому что проторенными тропами только дурак пойдет, а непроторенных троп столько, что на всей границе людей не хватит, чтобы их только на участке нашего отряда перекрыть. Не будут бандиты торопиться, полежат в кустах, выждут, когда пройдет наряд, и за спиной пограничников перейдут на другую сторону без опасения получить пулю вдогонку. Получить пулю на последнем шаге всегда неприятнее, чем на первом, но эта неприятность, понятное дело, мысленная, опережающая само событие, потому что, получив пулю и с жизнью простившись, думать об этом уже не будешь и никакая обида не сможет тебя достать…
Лагерь боевиков следовало разведать, хотя я понимал опасность такой разведки… Мы летели не на боевом бронированном ракетоносце, который сбить можно только ракетой. Мы летели на простом небесном работяге транспортнике, пусть и называемом военно-транспортным вертолетом. А военно-транспортный вертолет не имеет никакой защиты, как не имеет и вооружения, чтобы пресечь всякое желание расстреливать свои борта снизу. К тому же шли мы на предельно малых высотах, когда допустим даже автоматный обстрел, а не только пулеметный, и даже он мог бы стать эффективным и опасным для нас.
Честно говоря, я не имел опыта подобных действий и не решался лезть со своими советами, которые могут оказаться смешными и нелепыми тем, кто в этом деле лучше разбирается. Я вообще не имел пока боевого опыта. И потому желал бы прислушаться к мнению старшего лейтенанта Воронцова, опытного спецназовца и командира экипажа самого вертолета, который тоже немало часов, думается, провел в воздухе. И потому позвал Воронцова в пилотскую кабину. Старлей, естественно, как это вообще, насколько я знаю из своего опыта общения, всем спецназовцам свойственно, сразу плечом двинул, оттирая меня на задний план, словно эта разведка только его интересовала. Хотя в этом он, может быть, и прав был. В первую очередь данные воздушной разведки могли заинтересовать спецназ, потому что прорваться к границе бандиты могут только по трупам спецназовцев, а мы в очереди на боестолкновение числимся только под вторым номером.
Командир экипажа отправил старшего лейтенанта в «фонарь» к штурману, откуда обзор гораздо более широкий и видимость лучшая. Я знал, что кабина штурмана слишком мала, чтобы там троим поместиться. Там двоим плечами повернуть невозможно, и потому остался с пилотами. Отсюда обзор тоже был неплохой. Единственно, у меня не было возможности посмотреть себе под ноги под прямым углом. Но дымы костров впереди, про которые уже знал, я увидел издали, и потому почти лег на спинку кресла майора, чем заставил командира экипажа слегка поморщиться, но не возразить. Майор тоже понимал, что разведка, произведенная одной парой глаз, не все может констатировать, тогда как разведка двумя парами уже гораздо качественнее.
Я всматривался в лесистое дно ущелья, втайне надеясь увидеть то, что пропустит старший лейтенант Воронцов, несмотря на то что он профессиональный разведчик. Вернее, именно потому, что он профессиональный разведчик… Всегда хочется оказаться в подобной ситуации специалистом не хуже, чем настоящий профессионал, хотя я понимал, что профессионализм не может быть моментом сиюминутным, но является постоянной величиной, из которой и складывается специализация офицера. Но, к своему сожалению, увидеть я почти ничего не смог. Костры просвечивали сквозь кусты и стволы деревьев и в общем сумраке, создаваемом тучами, видны были ярко. Я смог сосчитать – три костра по центру, и видел еще пять дымов от других костров по кругу, уже на склоне, на левом и на правом. И даже, как мне показалось, фигуры нескольких людей в камуфляжке я сумел выхватить из общего фона, хотя они очень хорошо с этим фоном сливались. Однако этого было мало для составления данных разведдонесения, и это даже я, не разведчик, понимал.
Вертолет пролетел мимо, поднялся чуть выше, насколько позволяли густые облака, и там на месте развернулся. Старший лейтенант Воронцов выглянул с лестницы, ведущей в отсек штурмана. Осмотрелся, меня не видя, и встретился взглядом с командиром экипажа.
– Люк открыть можно? – прокричал, забыв, что у него в руках наушники с микрофоном.
– Пассажирский? – тоже громко переспросил майор.
Я понял, что Воронцов отключил наушники, потому что от кресла штурмана вынужден был удалиться.