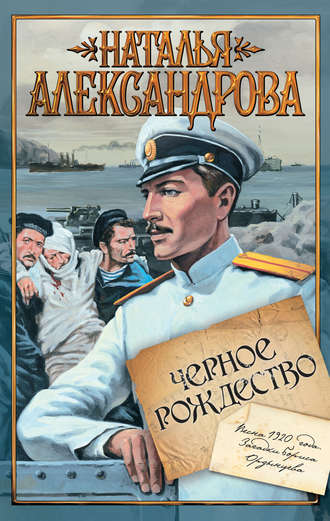
Полная версия
Черное Рождество

Наталья Александрова
Черное Рождество
Памяти генералов А.И. Деникина и Я.А. Слащева, поручиков Сергея Мамонтова и Павла Макарова, сестры милосердия Софьи Федорченко и многих других известных и безымянных участников и свидетелей описываемых событий, без чьих бесценных воспоминаний эта книга не могла бы появиться
Часть первая
Севастополь
Поезд, и без того еле тащившийся, испустил тоскливый протяжный гудок и встал. Бородатый казак, дремавший у двери купе, открыл глаза и потянулся за прислоненным к стене карабином.
Бледная девушка в беличьей шубке и каракулевой шапочке прижалась лицом к стеклу, но за окном ничего не было видно, кроме глухой непроглядной ночи. Девушка поправила выбившуюся из-под шапочки пепельную прядь и обернулась:
– Анна Павловна, что это? Кажется, там стреляют!
Анна Павловна, унылая дама средних лет, нервно передернула плечами и сказала низким простуженным голосом:
– Не знаю, ваше высочество. Генерал клялся, что на этой дороге спокойно, но кому сейчас можно верить! О Боже, кажется, я сойду с ума! Степан, посмотри, что там происходит. – Дама повернулась к казаку, но не успел он подняться, она передумала и воскликнула: – Нет-нет, не уходи! Не оставляй нас одних! Если ты уйдешь, я сойду с ума!
Девушка чуть заметно поморщилась и произнесла усталым голосом:
– Анна Павловна, голубушка, если вы так упорно желаете сойти с ума, подождите хотя бы до Ливадии, а там, будьте любезны, сходите. А то, если вы сделаете это в дороге, ко всем нашим неприятностям…
Закончить фразу ей не удалось. Дверь купе откатилась, и на пороге возникла одна из тех страшных личностей, которых в неисчислимом множестве произвела на свет Гражданская война. Небритый человек с рассеченным косым шрамом опухшим лицом, украшенным к тому же сифилитическим провалом на месте носа, облаченный в перепоясанную пулеметной лентой барскую шубу, разодранную и простреленную во многих местах, оглядел купе и гнусаво протянул:
– И-и-их! Буржуйская лавочка! Сразу видать – белая кость, твою так и разэтак! Едут втроем, как графья. А ну, выкладай вещички, икспро… прияцию делать будем!
Бородатый казак, неожиданно взревев, бросился на бандита с кинжалом, но безносый урод чуть повернулся к нему, сквозь шубу страшно шарахнуло огнем, оглушительно грохнуло, и казак с огромной клокочущей дырой в груди рухнул прямо на колени истошно завизжавшей Анны Павловны.
Безносый вытащил из-за пазухи свое чудовищное оружие – обрубок винтовки с отпиленным стволом и прикладом – и осклабился:
– И-и-их! Так и разэтак! Ты что, шкура, думаешь, Махрюту возьмешь за рубль за двадцать? Ша! А ты чего визжишь, кляча? – уставился он на заходившуюся криком Анну Павловну. – Думаешь, Махрюта до твоего крику сильно интересуется? Ша! Сказано тебе – выкладай вещички!
Бандит пыхнул на старую деву дикими горящими глазами, как выползающий из туннеля паровоз, и так страшно клацнул зубами, что Анна Павловна мгновенно замолчала и уставилась на Махрюту, как дрожащий кролик на приподнявшуюся для броска ядовитую змею.
– Ну и чего ж ты так смотришь, кляча белая? – прогнусил Махрюта, стаскивая на пол купе, как мучной куль, мертвого казака и протягивая к своей жертве грязную волосатую лапу. – Или я тебе непонятно сказал? Может, ты только по-хранцузски понимаешь? Сказано же – вещи выкладай! Или я об них должен свои трудовые руки пачкать!
Анна Павловна только тряслась и пыталась что-то сказать, но язык ей не повиновался.
– Ох, и утомила ты меня! – Махрюта снова клацнул зубами и неожиданно ударил несчастную кулаком в висок. Голова Анны Павловны откинулась в сторону и застыла под недопустимым углом к туловищу, как у сломанной куклы.
Девушка у окна тихо ахнула и вжалась в стенку. Бандит повернулся к ней и осклабился:
– Ты, мамзеля, не боись! Я тебя не забижу! Ты Махрюту по-хорошему полюбишь, и Махрюта тебя не тронет…
По коридору протопали быстрые шаги многих ног. В дверь купе заглянула какая-то зверообразная физиономия, бросила неожиданно высоким голосом:
– Махрюта, кончай здесь, казаки валят!
– Чичас, – отмахнулся Махрюта и снова повернулся к девушке: – Видишь, мамзеля, спешить надо, а то не успеем мы с тобой.
– Лучше убей, – твердо произнесла девушка, бледнея больше прежнего.
– Это запросто, – произнес Махрюта, хватаясь за воротник беличьей шубки, – это мы завсегда с нашим удовольствием, только сперва ты меня полюбишь…
С этими словами он рванул шубку. Девушка пыталась защищаться, но силы были явно неравны. Махрюта разорвал воротник скромного темно-зеленого платья… и вдруг увидел спрятанный под платьем на груди своей жертвы мешочек из мягкой синей замши. Мысли бандита мгновенно изменили свое направление.
– И-и-их! Вот оно что! Золотишко от Махрюты припрятать хотела, так твою и разэтак!
Он разорвал шнурок, на котором висел мешочек, и потянул завязки. Изнутри полилось такое сверкание, что бандит, кажется, даже посветлел лицом.
– И-и-их! – произнес он умиротворенно. – Вот ведь так твою…
Закончить он не успел. Неподалеку шарахнуло несколько выстрелов, по коридору прогрохотали сапоги, от двери полыхнуло, и вслед за выстрелом на пороге возник человек в белом полушубке с погонами.
Махрюта немного подумал и рухнул на пол мертвым, отбросив в сторону руку с синим мешочком.
– Прапорщик Макаров! – представился человек в полушубке, разглядев бледную пассажирку. – Вы не пострадали?
– Слава Богу! – Девушка опустилась на сиденье, и ее забила крупная дрожь. – Слава Богу! Он убил Степана и Анну Павловну, а меня он хотел… он хотел… Слава Богу, что вы успели, прапорщик! Кто это был – бандиты? Зеленые?
– Бандиты, – равнодушно ответил прапорщик. Его взгляд был прикован к синему замшевому мешочку. Прапорщик наклонился, поднял мешочек и заглянул в него. – Это ваше? – спросил он, подняв на девушку печальный взгляд маленьких, близко посаженных глаз.
– Да, а что? – В голосе девушки снова прозвучал испуг: взгляд прапорщика ей очень не понравился.
– Да нет, ничего… – Макаров быстро, воровато выглянул в коридор, затем торопливым, стеснительным движением поднял пистолет и выстрелил в бледную пассажирку.
Глава первая
Серое небо, серое море, штурмовыми отрядами свинцовых волн накатывающееся на мол, серый город Новороссийск, цементный завод, огромный порт. Город сер от пропитавшего все вокруг цемента, сер от тысяч солдатских шинелей.
Здесь, в Новороссийске, в марте двадцатого закончилось отступление Добровольческой армии.
Победоносная летом и ранней осенью девятнадцатого года, занявшая Курск, Орел, едва не дошедшая до Москвы, утратившая в бесконечном отступлении по зимним степям, по непролазной кубанской грязи тысячи солдат и офицеров, тысячи лошадей, сотни орудий, утратившая боевой дух и веру в победу, потерявшая надежду армия пришла в страшный город Новороссийск, чтобы погрузиться на корабли и переправиться в Крым, удерживаемый против десятикратно превосходящих сил противника Крымским корпусом генерала Слащева. Остальная Россия была потеряна навсегда.
Когда же армия пришла в Новороссийск, оказалось, что для ее эвакуации ровным счетом ничего не подготовлено. Казалось, что эвакуацией никто не руководит. Огромные склады деникинской армии, заполненные полученным от союзников английским обмундированием и медикаментами, французским провиантом, а также боеприпасами, стояли невывезенные, в то время как армия была раздета, необута, голодна, страдала от отсутствия патронов и снарядов. Теперь, когда стало ясно, что вывезти склады уже не удастся, их подожгли, чтобы не оставлять красным. Огромный столб пламени поднимался к небу, дым сносило норд-остом в море. Мародеры прорывались через охранение, перелезали бетонную стену и вытаскивали из огня что попадалось под руку.
Дюжина пароходов стояла возле пристани, набитая до отказа беженцами, служащими тыловых учреждений и интендантств. Пристани были заполнены тысячами людей, пытавшихся пробиться на пароходы. Чуть дальше в Новороссийской бухте стоял военный флот западных держав – несколько крупных английских судов, одно французское, одно итальянское и даже одно американское. Этот флот мог бы взять на борт всю армию, но он лишь присутствовал как зритель, только под конец суда приняли, чтобы соблюсти приличия и вместе с тем не испачкать палубы, около шестисот человек.
Лазареты были переполнены ранеными и больными, у которых не было совершенно никаких шансов на спасение.
Регулярные войска сохранили еще дисциплину и боеспособность, казаки же растеряли свои части, многие побросали по дороге оружие и были совершенно деморализованы.
Пароходы вполне могли сделать несколько рейсов, выгружая беженцев в Керчи и возвращаясь обратно, но вместо этого они несколько дней неподвижно стояли у пристаней, перегруженные народом, ожидая приказов невесть от кого.
Сохранивший строй и порядок Первый армейский корпус генерала Кутепова[1] разместили фронтом на окружавших город возвышенностях.
Борис Ордынцев смотрел с высоты на серый город, на свинцово-серую бухту, на приткнувшиеся у причалов переполненные беженцами пароходы, на военные корабли «союзников», красующиеся на рейде во всем высокомерии своей чистоты и силы, еще больше подчеркивая азиатское безобразие обреченного города, обреченной армии; смотрел на горящие ангары складов, на полосу сизо-черного дыма, ползущего на бухту, и вспоминал.
Он припомнил лето девятнадцатого года, когда он приехал в Крым в поисках сестры – приехал вчерашним студентом, утратившим, конечно, довоенную розовую наивность на кровавых и огненных дорогах Гражданской войны, но еще сохранившим штатскую интеллигентскую мягкость и нерешительность.[2] Попав в водоворот событий, Борис необычайно изменился. Опасные приключения среди греческих контрабандистов и турецких шпионов, в Крыму и в Батуме, перековали его, сделали человеком действия. И больше всего повлияла на судьбу Бориса встреча с таинственным полковником Горецким, прежним его преподавателем на юридическом факультете Петербургского университета, теперь выполняющим специальные поручения Военного отдела Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР.[3]
После благополучного завершения событий в Батуме и Феодосии Борис вступил в Добровольческую армию в чине поручика, с тем чтобы состоять при полковнике Горецком офицером для особых поручений. Полковник убедил его, что таким образом Борис принесет большую пользу, чем просто сидя в окопах, к тому же больше возможностей было искать сестру, сгинувшую в водовороте Гражданской войны. Горецкий полушутя утверждал, что взять Бориса на службу его подвигла потрясающая везучесть бывшего студента. Не имея, казалось, на первый взгляд никаких особенных талантов, Борис умел выходить живым из любых, самых отчаянных передряг.
Пришлось, однако, скинуть чистенький мундир штабного офицера и пойти в конный рейд против Махно.[4] Этого требовало дело. Борис выдержал и это испытание, хотя побывал в плену у красных и у махновцев. Сестра Варя отыскалась чудом, и полковник Горецкий помог ей уехать в Константинополь, потому что молодой девушке не место было среди солдат и казаков.
Борис снова оглядел серое равнодушное море. Эти волны бегут безостановочно вдаль, как бежали белые от Орла до Новороссийска, они бегут, верно, до самого Константинополя, и, может быть, Варя смотрит сейчас на это же море с берега бухты Золотой Рог… Борис страшно тосковал по ней, но еще оставался Крым – последний кусок России, не отданный большевикам, а значит, не время еще плыть в Константинополь. Долг и честь требуют от каждого честного русского человека до последней возможности защищать Родину…
– Что, Борис, глядишь? – окликнул его старый друг Петр Алымов. – Ничего хорошего не высмотришь.
Борис встревожился, услышав его голос, – такое в нем было отчаяние. Петька Алымов – друг детства, почти брат, с чьей конно-горной артиллерийской батареей он отступал всю зиму по непролазной кубанской грязи, через Дон и дальше. Петька Алымов – второй человек после Вари, для кого Борис не думая пожертвовал бы всем. Он вспомнил, как вытаскивали орудия из топи, как вставали они с Петром ночью, чтобы накормить лошадей, потому что измученные солдаты на ночлеге просто валились на пол и засыпали не раздеваясь.
Батарея пришла в Новороссийск почти в полном составе, орудия были вполне боеспособны, а солдаты относительно здоровы, хоть и отощали и обносились. И вот оказалось, что все их усилия были напрасны. Нечего было и думать вывезти лошадей, не говоря уже об орудиях.
– Все, точка, – мрачно пробормотал Алымов. – Дошли до моря, и никто нас здесь не ждет.
– У меня такое чувство, что эвакуацией никто не руководит, – осторожно начал Борис. – Красные не сегодня-завтра будут в городе, и что с нами будет?
Ответом ему было тяжелое молчание. Борис уныло думал, что, кажется, его хваленому везению пришел конец. Действительно, его ангел-хранитель хорошо потрудился за последние два года. Он не дал Борису умереть от тифа, он помог спастись от расстрела красных, Бориса не убило в бою, его не зарезали бандиты в украинских степях, но здесь, в Новороссийске, слишком самонадеянно было бы сидеть и ждать, когда ангел-хранитель придет на помощь, следовало позаботиться о себе самому.
– Однако надо бы сходить в порт, узнать подробнее, – нерешительно проговорил Борис.
Алымов согласился. Верный Ахилл встретил Бориса голодным ржанием. Борис погладил жеребца по крупу и отвел глаза. Он боялся, что конь прочитает в его глазах о неизбежном расставании.
Вблизи порт производил еще худшее впечатление. Ничего они не выяснили, не нашли никого, кто бы смог им объяснить, откуда возьмется транспорт для эвакуации армии. Обратно ехали молча вдоль высокой бетонной стены, где находились горящие ангары. Какие-то люди перелезали в удобном месте через стену, держа свертки с обмундированием. У Алымова презрительно задергалась щека. Борис хотел было послать Ахилла вперед, чтобы не видеть окружающего безобразия, но тут вдруг буквально на него свалился с забора невысокого роста плотненький такой солдатик. В руках у солдатика было три пары отличных офицерских сапог. Приземлившись неудачно на бок, солдатик охнул, поудобнее перехватил свою ношу и завертел по сторонам круглой головой. Краем глаза уловив знакомое движение, Борис придержал жеребца, а солдатик уже поднимался с места, радостно вопя:
– Ваше благородие, Борис Андреич! Да как же я рад!
В ту же минуту Борис соскочил с лошади, не менее радостно приговаривая:
– Саенко, дорогой! А я-то как рад тебя видеть!
Перед ним стоял бессменный ординарец и денщик полковника Горецкого Саенко, который в прошлом не раз выручал Бориса из беды.
– Ты, Саенко, как здесь? А где же Аркадий Петрович?
– Тут мы, тут, – Саенко понизил голос, – на французском миноносце. «Сюркуф» называется. Вон он в стороне на рейде стоит.
– Что же полковник Горецкий там делает? – Алымов неприятно усмехнулся. – В одиночку спасается?
– Дела у него там. – Саенко отвернулся.
– Все дела и дела, – вздохнул Борис. – Понаделали делов, что всю армию профукали. Это же черт знает что творится!
– Истинно так, – опять зашептал Саенко, оглядываясь, – такое делается, что не приведи Господи… Тыловики первые на пароходы сели, да еще и с барахлом своим. А солдатики… – Он погладил Ахилла по светлой гриве: – Эх ты, коник золотой, как же ты теперь будешь…
Ахилл, будто поняв человеческую речь, встревоженно повел ушами и покосился на Саенко коричневым глазом. У Бориса кольнуло сердце: решать, что делать с Ахиллом, придется в самое ближайшее время.
– Что скажу, – продолжал Саенко вполголоса, – если хотите выбраться, то на союзников не рассчитывайте. Аркадий Петрович чуть в ногах не валялся – просил хоть сколько военных на борт взять. Англичане, сволочи, сразу отказали, а французский капитан ни мычит ни телится, но мы его добьем. Есть одна идея, я как раз по этому делу в город и пришел…
– Вижу я, по какому ты делу. – Борис указал на сапоги, что Саенко прижимал к груди.
– А чего ж? – не смутился тот. – Не пропадать же добру. А вот, кстати, Борис Андреич, возьмите, впору они вам будут.
Борис посмотрел на отличные сапоги и на свои растоптанные солдатские бахилы и согласился.
– Что, Саенко, безнадежное это дело – на пароход сесть? – спросил Алымов. – Что ж, так здесь и ждать красных?
– Никак нет, – теперь Саенко и вовсе понизил голос, – завтра прибудет судно, «Аю-Даг» называется. С последнего пирса грузится будет. Это последний ваш шанс, а уж если никак не выйдет – тогда до «Сюркуфа» как-нибудь добирайтесь вдвоем, полковника Горецкого спросите.
– Ты что же это мне предлагаешь? – разъярился Алымов. – Да как же я могу своих солдат бросить? – Он схватил Саенко за гимнастерку и начал трясти.
– Остынь, Петр! – Борис оторвал его руки. – Не время сейчас…
– Эх, ваше благородие! – огорченно произнес Саенко, отряхиваясь. – За что вы на меня-то зло таите? Я, что ли, виноват, что все прахом пошло?
– Иди уж с Богом, – вздохнул Борис, – авось еще свидимся…
В утренний час трактир был пуст и темен. Не было еще никого из обычных его посетителей, тех странных и подозрительных личностей, которые и в годы «сухого закона» изыскивают себе вожделенную рюмку, и в годы Гражданской войны не думают ни о чем, кроме заветного пьяного отупения.
По стенам трактира висели портреты никому не ведомых генералов и монархов, намалеванные твердой решительной рукой прохожего живописца, да зеркала, украшенные паутиной и пауком, спускающимся на грязную салфетку.
Еще вчера на видном месте среди сказочных и баснословных генералов висел большой олеографический портрет Антона Ивановича Деникина, но сегодня, ввиду неудачных обстоятельств на фронте, содержатель заведения почел за лучшее Деникина убрать до лучших дней и подумывал, не поступить ли так же с остальными портретами – хотя и неизвестные, а все ж таки генералы…
Сам содержатель внушительной громадой возвышался за стойкой своего заведения, что было не совсем обыкновенно: в такой ранний час вряд ли он мог ожидать больших барышей. И правда, только один тщедушный субъект, одетый в какую-то рваную хламиду, не похожую ни на какой предмет одежды, надеваемой обыкновенным человеком, успел уже нализаться до полного бесчувствия и спал за одним из дощатых столов, изредка вздрагивая во сне и испуская тоненький жалобный стон, какой издают иногда сквозь сон небольшие собаки.
Видно было, что хозяин заведения кого-то поджидает – он все к чему-то прислушивался, да нет-нет и взглядывал в маленькое, сильно закопченное и запачканное оконце.
Наконец ожидание его увенчалось успехом: в окошко кто-то чуть слышно постучал костяшками пальцев определенным, условным и заговорщицким, стуком.
Хозяин поспешно бросился к двери и впустил в трактир невысокого, но крепкого и широкоплечего человека в белом перепоясанном полушубке и лихо заломленной каракулевой кубанской папахе.
– Ну что? – спросил гость, оглядываясь. – Ждет ли?
– Сейчас кликну, – отвечал хозяин, поворачиваясь к внутренним помещениям.
– А это еще что за личность? – подозрительно взглянул гость на спящего пьянчужку.
– Дак, изволите видеть, пьянь подзаборная, – любезно рекомендовал хозяин своего неказистого клиента.
– Ты… это… выкинь его от греха.
– Не извольте беспокоиться. – Хозяин осклабился, прихватил спящего забулдыгу одной рукой за шкирку, как кошка хватает своих слепых детенышей, подволок его без видимого усилия к двери и безжалостно выкинул в подтаявший мартовский снег. После этого он снова повернулся к внутренним покоям и довольно громко окликнул: – Ваше благородие! К вам прибыли-с!
Откинулась занавеска, закрывавшая вход в заднюю комнату трактира, и на свет вышел высокий человек, до глаз закутанный в черную, косматого меха, бурку, незаметно переходящую в такую же косматую черную папаху. Единственное, что можно было разглядеть в полутьме заведения, были его яркие выразительные глаза.
– Ну что, привезли? – спросил этот новый персонаж у гостя в полушубке. – Какие там новости?
– Товарищ Макар очень торопит. Теперича скорей надо мятеж поднимать, пока вся эта белая сволочь в Крыму не обжилась да не закрепилась.
– Это да, это да… – отмахнулся человек в бурке как от чего-то не важного. – Ты говори, привез ли от Макара что обещал?
– А как же ж… Вот, от товарища Макара гостинец. – Гость показал объемистый и тяжелый по виду замшевый кошель. – А где оружие?
– Сейчас-сейчас, будет тебе оружие. – Человек в бурке протянул руку к замшевому мешочку.
– Э нет, – гость попятился и волшебным невидимым движением создал в своей руке черный вороненый «маузер», – чтой-то мне, товарищ, твои ухватки не нравятся. Покажи-ка ты мне сперва оружие, а потом уж за кошель хватайся.
– Ничего-ничего, – закивал человек в бурке, осторожно наступая на гостя и вместе с тем делая глазами какие-то знаки стоящему позади гостя хозяину трактира.
Гость отпрыгнул и развернулся, переводя «маузер» в сторону второго противника, но трактирщик уже, бешено вращая глазами, опускал на него огромный мясницкий топор. Несчастный не успел ни выстрелить, ни увернуться, только немного отстранился, и широкое лезвие топора, скользнув по каракулю папахи, глубоко рассекло плечо, едва не начисто отрубив правую руку.
– Ах ты, профитроля… – приговорил трактирщик, снова поднимая топор, – врешь, не уйдешь, куда ж ты без руки…
Кровь из разрубленного плеча пульсирующим потоком хлынула на белый полушубок. Раненый закачался, глаза его затянуло смертной поволокой, но трактирщик, не останавливаясь на полпути, снова опустил топор, с отвратительным треском раздвоив череп, и радостно примолвил:
– Ух, пустим кровушку на волюшку!..
Безжизненное тело мешком грянулось на грязный пол трактира.
Трактирщик оглянулся на человека в бурке и с суетливой озабоченностью в голосе сказал:
– Сейчас. Приберем тут маленько… а то кровь, грязь, мало ли кто зайдет…
Он притащил рогожу, закатал в нее труп, подтер краем этой же рогожи кровавые сгустки с пола. Подхватив ужасный сверток, взвалил его как пушинку на плечо и пошел к выходу.
– Давай помогу тебе. – Человек в бурке шагнул следом. – Куда ты его понесешь? Не увидит ли кто?
– Да здесь об эту пору никого не бывает, – усмехнулся трактирщик, – да и то подумают – мало ли что несу?
Вдвоем вышли они из трактира. На улице и впрямь не было ни души – узкая грязная улочка заканчивалась возле трактира и далее переходила в почти непроходимую тропку между двумя возвышенностями, скорее напоминающую глухой овраг. Трактирщик легко шагал этой тропой, как перышко неся свою страшную ношу, человек в бурке едва поспевал следом.
Неподалеку от трактира тропа вывела их к широкому ручью с большой черной полыньей. Трактирщик размахнулся и сбросил сверток в быструю ледяную воду.
– Тут тебе самое и место, – проговорил он с кривой разбойничьей ухмылкой.
– И тебе, – лаконично добавил человек в бурке, выстрелив в затылок своему дюжему спутнику.
Трактирщик изумленно обернулся к убийце, хотел ему что-то сказать, но пуля снесла ему всю нижнюю челюсть и превратила лицо в кровавое месиво. Выпустив фонтан темной густой крови, трактирщик тяжело покачнулся, рухнув в полынью вслед за своей не остывшей еще жертвой.
Человек в бурке спрятал «наган» за пазуху. Вдруг внимание его привлек какой-то новый звук. Повернувшись, он увидел, что из-за края горки, возвышающейся над тропой, выглядывал человек. «Наган» снова оказался в руке… но никого уже не было видно, и убийца засомневался даже, не померещилось ли ему лицо над краем оврага.
На следующее утро дивизион, в который входила конно-горная батарея, пошел в сторону порта. Ехали как могли быстро, не глядя по сторонам, обгоняя повозки с беженцами и пеших людей. Дорога проходила мимо лазарета. Раненые офицеры на костылях стояли на пороге и умоляли взять их с собой. Борис сжал зубы и отвернулся. Куда они могли взять беспомощных людей, если сами не знали, попадут ли на судно.
– Не эвакуировать раненых! Пусть тот, кто это сделал, вечно горит в аду! – прошипел Алымов сквозь стиснутые зубы.
Борис только выругался, кипя от бессильной злобы. Показалась пристань. Молча прошли к последнему пирсу. Они опоздали. Судно «Аю-Даг» пришло ночью, его уже успели загрузить людьми. На палубе было черно от народа, громоздились узлы, баулы, какие-то ящики.
Командир дивизиона полковник Никифоров спешился и скомандовал:
– Распрягай! Лошадей оставляем здесь. Орудия испортить!
Молча сняли с орудий прицелы и замки, прицелы разбили, замки выбросили в море, чтобы красные не могли воспользоваться брошенными пушками.
– Расседлайте и разнуздайте! Кто может – пристрелите. Но седла возьмите с собой, они нам пригодятся.








