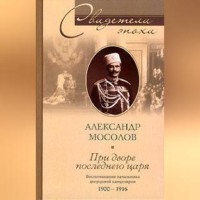Полная версия
При дворе последнего царя. Воспоминания начальника дворцовой канцелярии. 1900-1916

Александр Александрович Мосолов
При дворе последнего царя. Воспоминания начальника дворцовой канцелярии. 1900–1916
Глава 1
Император Николай II и его семья
Царь
Его отец и мать
Александр III, сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны, принцессы Гессен-Дармштадтской, получил домашнее образование, как было принято в те годы, и не посещал никаких школ. Он твердо усвоил одну мысль – необходимо всячески поддерживать престиж самодержавной власти императора. В этом последнем пункте традиция, унаследованная им от его августейшего отца Александра II и деда Николая I, соблюдалась им со всей возможной пышностью. Будущему императору постоянно внушалась мысль, что сам Бог поручил русским царям управлять Россией с ее безграничными просторами. Царь – хранитель своей страны и символ национального единства, оплот отеческой заботы и рыцарской справедливости.
Мать Александра научила его ценить брак и семью. В равной степени она заботилась и о том, чтобы ее сын умел вести себя в обществе, соблюдая все тонкости этикета и церемониала.
Личные пристрастия Александра III имели больше сходства с пристрастиями деда, Николая I, чем с либеральными взглядами отца, Александра II. Он считал, что русское общество должно изменяться медленно и постепенно – слишком быстрое развитие его политических учреждений приведет к усилению анархических тенденций, присущих славянской душе. Он боялся, что поспешные реформы могут вызвать беспорядки, и был уверен, что они не отвечают интересам России.
Хорошо известно, что консервативные взгляды царя нашли свое отражение в талантливом творении князя Трубецкого, скульптора исключительного дарования, которому было поручено водрузить в Санкт-Петербурге конную статую великого царя. Железной рукой отец Николая II туго натягивает поводья своей тяжелой и внушительной лошади. Всякий раз, проходя мимо этой величественной статуи на Знаменской площади, я, будучи генералом от кавалерии, говаривал про себя: «Нельзя так сильно натягивать поводья – конь может встать на дыбы».
Второй особенностью характера Александра III, о которой стоит сказать несколько слов, была его страсть ко всему типично русскому. При дворе Александра II слишком большим влиянием пользовались император Вильгельм I и некоторые мелкие германские князья, что вызывало протест в душе Александра III. Он испытывал отвращение ко всему немецкому. Он старался быть русским в мельчайших деталях личной жизни, поэтому его манеры казались менее привлекательными, чем манеры братьев; он заявлял, не утруждая себя обоснованием, что истинно русский человек должен быть несколько грубоват, слишком изящные манеры ему не нужны. Уступая требованиям дворцового этикета, в узком кругу друзей он отбрасывал всякую неестественность, считая церемонии необходимыми только для германских князей, которые не имеют других средств для поддержания авторитета и защиты своих прав на существование.
Супруга Александра, принцесса Датская, мать Николая II, воспитывалась при одном из самых патриархальных европейских дворов; она внушила своему сыну незыблемое уважение к семейным традициям, а также передала ему то огромное личное обаяние, которое сделало ее столь популярной в России. Все дети принцессы Дагмар были меньше ростом, чем их дяди и тети. Великолепие осанки, отличавшее поколение Александра II, не передалось последним Романовым. Именно поэтому граф Фредерикс, министр двора, советовал Николаю II никогда не появляться на публике верхом на коне. Я помню, как император заметил по этому поводу со смехом:
– Графу нравится гарцевать перед толпой. Уверен, поэтому он и настаивает, чтобы я ездил в экипаже.
Несмотря на свой небольшой рост, царь был отменным всадником; его посадка в седле внушала уважение.
Двое из моих друзей, генерал-адъютант Васильковский и мистер Хит, обучавший наследника престола английскому языку, поделились некоторыми подробностями образования детей Александра III. По их словам, дети императора не отличались примерным поведением. Можно даже сказать, что их манеры во многом напоминали манеры мелких провинциальных дворян. Даже обедая в присутствии родителей, они не стеснялись бросаться друг в друга шариками из хлебного мякиша, если были уверены, что их за этим занятием не поймают. Все они обладали крепким здоровьем и много времени уделяли спорту, за исключением Георгия Александровича, который был слаб легкими и умер в раннем возрасте.
Особое внимание уделялось обучению детей языкам, и учителя старались добиться правильного произношения. Все дети обладали отменной памятью, особенно на имена и лица. Хорошая память позволила Николаю Александровичу приобрести глубокие познания в истории. Когда я впервые познакомился с ним, он был уже определенно высокообразованным человеком. Что касается его братьев и сестер, то на их образование родители обращали мало внимания.
Воспитателя будущего императора звали Данилович, и ему было присвоено звание генерал-адъютанта. Мой друг Васильковский называл его не иначе как «этот выживший из ума иезуит». В начале своей карьеры Данилович возглавлял военное училище, где и получил это прозвище. Он полностью отвечал за воспитание Николая II и научил его непоколебимой сдержанности, что являлось главной чертой его собственного характера. Александр III был беспощаден даже по отношению к собственным детям и презирал все, что носило хотя бы малейший намек на «слабость». Детям и даже самой императрице приходилось скрывать от него не только собственные ошибки, но и промахи людей из своего окружения. Таким образом, дух притворства и скрытности был врожденным в этой семье, и со смертью отца он никуда не делся. Не раз слышал я от Николая Александровича недобрые слова в адрес людей, не сдержавших своего обещания и разболтавших какой-нибудь секрет.
Став царем, Николай II сразу дал понять, что положение монарха не мешает ему поступать по своему усмотрению. Свою роль в этом сыграла его природная застенчивость. Он ненавидел наводить справки, жаловаться и спорить. Следуя своему правилу, он никогда не проявлял беспокойства или волнения, даже в ситуациях, когда взрыв эмоций был бы вполне естественным. Если он обнаруживал чью-либо неправоту, то обращал на это внимание непосредственного начальника спорщика и делал это в самых мягких выражениях и ни в коем случае не проявлял ни малейшего недовольства по отношению к тому, кто был не прав.
Уроки «иезуита» Даниловича не прошли даром.
Я могу засвидетельствовать, что царь был не только вежлив, но также чуток и внимателен ко всем окружавшим его людям. Он обращался одинаково вежливо к министру и лакею; он проявлял уважение ко всем, независимо от возраста, положения или социального статуса.
Он мог с легкостью расстаться даже с теми, кто прослужил ему долгое время. Одного осуждающего слова в адрес какого-нибудь человека, оброненного в его присутствии, часто даже совсем без основания, было для него достаточно, чтобы расстаться с этим человеком; хотя обвинение могло быть и ложным. Царь делал это без малейшего сожаления, даже не пытаясь установить факты, что, по его мнению, было делом начальников уволенного лица или, если необходимо, прерогативой суда. Еще реже ему приходило в голову защищать кого-либо или изучить мотивы клеветника. Как все слабые личности, он был недоверчив.
Был ли он хорошим человеком?
Очень трудно проникнуть в глубины чужой души, особенно если это душа императора России. Посещая военные госпитали во время войны, царь проявлял трогательную заботу о судьбе раненых. На кладбищах, где над братскими могилами высились тысячи крестов, он молился с неподдельным рвением.
Сердце императора наполняла любовь, но это была коллективная любовь, если можно так выразиться, которая очень сильно отличалась от того, что вкладывают в понятие «любовь» простые люди.
Он искренне и страстно любил императрицу и своих детей. Я вернусь к этой теме позже.
Любил ли он своих дальних родственников? Сомневаюсь. Фредерикс лично рассматривал ходатайства и просьбы членов императорской семьи. Царь редко в чем-либо отказывал. Однако граф много раз говорил мне, что царь раздавал почести, деньги и недвижимое имущество, не испытывая от этого ни малейшего удовольствия. Это было простым исполнением долга монарха. Это было досадной помехой, а порой и прямо противоречило государственным интересам, но это «надо было делать». Не могло быть и речи о том, чтобы обидеть какого-нибудь дядюшку или племянника. Кроме того, царь надеялся, что пройдет какое-то время, прежде чем получивший дар вновь обратится с какой-либо новой просьбой.
Большую заботу проявлял он о двух своих сестрах и брате Михаиле. Искреннюю нежность выказывал он к племяннику Дмитрию Павловичу, который рос на его глазах и чья молодость так трогала его. Что касается остальных, то он проявлял ровно столько внимания, сколько нужно было, чтобы оставаться в рамках приличия и не вызывать никаких ненужных осложнений.
Неискренний или застенчивый?
Царя часто обвиняли в неискренности. Рассказывали о случаях, когда вызванные на прием министры, уверенные в полной благосклонности государя, получали отставку. Это не совсем справедливо по отношению к нему.
Отставки министров происходили по особому сценарию; но чем бы ни объяснялись поступки царя, его никак нельзя было обвинить в отсутствии прямолинейности.
Для царя министры были обыкновенными чиновниками, как и все другие, служившие России. Он «любил» своих министров так же, как и каждого из 150 миллионов своих подданных. И если у какого-нибудь министра случалось несчастье, то царь сочувствовал ему, как всякий чуткий человек сочувствует несчастью ближнего. Тем не менее граф Фредерикс был единственным, кто действительно пользовался благосклонностью государя.
Если министр был не согласен с царем, если против него выдвигались обвинения или по какой-либо причине монарх не испытывал к нему доверия, Николай все равно оказывал ему дружеский прием, благодарил за сотрудничество, расставаясь, тепло пожимал руку – а затем присылал письмо с предложением уйти в отставку.
Это определенно было влиянием Даниловича, «иезуита». Министры не принимали во внимание укоренившуюся в царе неприязнь к спору.
Почти всегда повторялась одна и та же история. После назначения нового министра царь некоторое время выказывал полное удовлетворение его деятельностью. Этот «медовый месяц» мог продолжаться довольно долго, но затем на горизонте сгущались тучи. Это происходило раньше, если министр был человеком принципов и имел определенную программу действий. Такие государственные деятели, как Витте, Столыпин, Самарин, Трепов[1], чувствовали себя вполне уверенно, заручившись царской поддержкой; они думали, что им предоставлена полная свобода действий для претворения в жизнь своих программ. Однако царь смотрел на дело совсем иначе. Часто он старался навязать свое мнение относительно деталей, в таких вопросах, например, как назначение исполнителей.
Сталкиваясь с таким отношением государя, министры реагировали в соответствии со своим темпераментом. Некоторые, вроде Ламздорфа, Кривошеина или Сухомлинова, мирились и соглашались. Другие были менее податливы и пытались достичь своего обходными путями или старались переубедить царя. Оба эти способа таили в себе опасность для министров, но особенно первый, поскольку, узнав об этом, царь очень сердился.
Не следует забывать, что Николай не имел борцовских качеств. Он очень быстро схватывал главную мысль своего собеседника, понимал с полуслова недосказанное, оценивал все оттенки изложения. При этом он делал вид, что верит всему, что ему говорят. Он никогда не оспаривал того, что говорил собеседник. Он никогда не занимал определенной позиции и не пытался решительным образом сломить сопротивление министра, подчинить его своей воле и сохранить тем самым опытного человека. Не реагируя на доводы собеседника, он не мог вызвать у министра того энергичного протеста, который помог бы ему убедить царя в своей правоте.
Он никогда не высказывался прямо или резко, не выдвигал аргументов, никогда не выходил из себя и всегда разговаривал ровным тоном. Министр, довольный, уходил, думая, что ему удалось убедить царя, но он жестоко ошибался. То, что он принимал за слабость, было обыкновенной сдержанностью.
Он забывал, что у царя не было моральной смелости и он не мог принимать окончательного решения в присутствии заинтересованного лица. На следующий день министр получал письмо, где находилось уведомление о его отставке.
Я повторяю – спорить было противно самой природе царя. Мы не должны забывать, что от своего отца (которого он почитал и примеру которого старался следовать даже в мелочах) царь унаследовал неистребимую веру в судьбоносность своей власти. Его призвание исходило от Бога, и за свои действия он отвечал только перед своей совестью и Богом. В этом его активно поддерживала императрица.
Царь отвечал только перед своей совестью и руководствовался интуицией и инстинктом, то есть теми вещами, которые теперь называют подсознанием и о которых не имели не малейшего понятия в XVI веке, когда московские цари утверждали свое самодержавие. Он отвечал перед иррациональными элементами, которые порой даже противоречили разуму. Отвечал перед чем-то неосязаемым, перед своим все возрастающим мистицизмом.
Министры же строили свои действия на доводах рассудка. Их аргументы обращались к разуму. Они говорили о цифрах и статистике, о прецедентах, об оценках и прогнозах, основанных на взвешивании разных возможностей, они ссылались на отчеты чиновников, на примеры других стран и так далее. Царь не мог с ними спорить, да и не имел желания. Он предпочитал написать письмо, отправлявшее министра в отставку. Министр больше его не удовлетворял – никто не понимал почему.
В остальном же царь, как и многие русские, считал, что от судьбы не уйдешь. Что должно случиться, то и случится. Все придет к своему концу, ибо Провидение не дремлет.
Чувство долга государя
Иными словами, царь воспринимал свою роль как представителя Бога на земле с исключительной серьезностью. Это было особенно хорошо заметно, когда он рассматривал прошения о помиловании осужденных на смертную казнь. Право миловать приближало его к Всемогущему.
Как только помилование бывало подписано, царь требовал, чтобы его немедленно отослали, чтобы оно не пришло слишком поздно. Помню случай, как однажды, во время нашей поездки на поезде, прошение пришло поздно ночью.
Я приказал слуге доложить обо мне. Царь был в своем купе и очень удивился, увидев меня в столь поздний час.
– Я осмелился потревожить ваше величество, – сказал я, – поскольку речь идет о человеческой жизни.
– Вы поступили совершенно правильно. Но как же мы получим подпись Фредерикса? (По закону ответная телеграмма царя могла быть отослана только в том случае, если на ней стоит подпись министра двора, а царь знал, что Фредерикс давно уже спит.)
– Я пошлю телеграмму за своей подписью, а граф заменит ее своею завтра.
– Отлично. Не теряйте же времени.
На следующее утро царь вернулся к нашему разговору.
– Вы уверены, – спросил он, – что телеграмму отослали сразу?
– Да, немедленно.
– Можете ли вы подтвердить, что все мои телеграммы идут вне очереди?
– Да, все без исключения.
Царь был доволен.
У царя никогда не было секретаря
Будучи посланником Бога на земле, царь сознательно и систематически устанавливал для себя пределы, к которым простой смертный стремиться не мог.
Примечательным, но, возможно, мало кому известным фактом является то, что у царя всея Руси никогда не было личного секретаря. Он так ревниво относился к своим исключительным правам, что собственноручно запечатывал конверты с собственными повелениями. Он доверял слуге эту примитивную работу только в том случае, если был очень занят. А слуга был обязан предъявить запечатанные конверты, дабы хозяин мог убедиться, что тайна его переписки не нарушена.
У царя не было секретаря. Официальные документы, письма не слишком частного характера составлялись, конечно, третьими лицами. Танеев писал рескрипты на награды сановникам. Министр двора готовил официальные письма членам царской семьи. Корреспонденцией с иностранными монархами занимался министр иностранных дел – и так далее.
Но были и другие задачи, которые мог выполнять личный секретарь самодержца, – например, готовить отчеты, подписывать важные бумаги, следить за делами особой важности, принимать корреспонденцию и тому подобное. Дел было достаточно, чтобы загрузить работой трех доверенных секретарей.
Но в этом-то и состояла проблема. В дела пришлось бы посвящать третье лицо, а царь не мог доверять свои мысли чужому.
Существовала еще одна опасность – секретарь мог превысить свои полномочия: навязывать свои собственные идеи, пытаться влиять на своего государя. Влиять на человека, который не хотел советоваться ни с кем, кроме своей совести. Даже мысль об этом могла повергнуть Николая II в ужас!
В этом царя поддерживал министр двора, поскольку Фредериксу было бы неприятно видеть третье лицо между ним и монархом.
У императрицы был личный секретарь, граф Ростовцев; у царя не было никого!
Он хотел быть один.
Один на один со своей совестью.
Я вспоминаю наше возвращение из Компьена, где мы присутствовали на незабываемом смотре французских войск. Разговоры шли среди военных, я помню, что в вагоне мы много часов решали один вопрос: сможет ли французская армия сдержать натиск батальонов Вильгельма II?
Все будущее российской внешней политики зависело от нашего вывода. Некоторые из наших специалистов считали, что французские войска были менее дисциплинированны и менее стойки в обороне, чем тевтонские фаланги. Другие утверждали, что, защищая свою землю, французский крестьянин будет драться как лев; события доказали их правоту. Спорщики все сильнее распалялись. Царь не проронил ни слова!
В Ливадии во время отдыха, который Николай II время от времени позволял себе, я был удостоен чести несколько раз сопровождать его верхом. В те дни я еще плохо знал государя и считал своим долгом занимать его беседой. Я начал с последних газетных новостей, крупных политических событий, насущных проблем. Царь отвечал с явной неохотой и тут же переводил беседу на другие темы: о погоде, горах и тому подобном. Зачастую, вместо ответа, он пришпоривал коня и переходил на галоп, разговаривать во время которого было невозможно.
Я быстро сообразил, что царь никогда не обсуждал серьезные дела с членами своей свиты. Он не любил высказывать свое мнение. Он боялся, что оно дойдет до других; в любом случае он понимал, что ему и так приходится принимать достаточно важных решений, чтобы еще приумножать их. В назначенные приемные часы министры получали его окончательное решение – этого было вполне достаточно.
Для него было легче всего придерживаться этого правила, поскольку в любом случае он всегда оставался внешне невозмутимым. Я вспоминаю момент получения телеграммы с известием о гибели всего русского флота в Цусимском проливе. Она пришла, когда мы с императором ехали в поезде. Фредерикс добрых полчаса не выходил из царского купе. Царь был совершенно подавлен. Теперь мы не могли выиграть войну с японцами; флот, являвшийся предметом такой заботы императора, был уничтожен; тысячи офицеров, которых он лично знал и высоко ценил, погибли.
Вошедший камердинер сообщил нам, что его величество пьет чай в вагоне-ресторане. Мы проследовали туда друг за другом. Там царило мрачное молчание: никто не смел начать разговор об этом ужасном событии.
Царь нарушил молчание первым. Он заговорил о предстоящих армейских маневрах и разных незначительных делах. Он говорил об этом больше часа. О Цусиме не было сказано ни слова.
У нас сложилось впечатление, что царя совсем не взволновало случившееся. Фредерикс разубедил нас в этом, поведав о разговоре, состоявшемся за полчаса до этого.
– Его величество желает видеть военного министра в своем купе.
Аудиенция генерала Сахарова длилась долго. По возвращении из царского вагона он тоже сказал, что царь проявляет глубокую озабоченность.
– Его величество обсуждал со мной обстановку. Он сказал, что реально оценивает предстоящие трудности. Он набросал вполне благоразумный план действий. Его самообладание достойно восхищения.
Много позже я узнал, какой удар по здоровью императора нанесла катастрофа при Цусиме, каким бы крепким оно ни было.
«Ваш» Петр Великий
За все семнадцать лет моей службы только дважды мне выпал случай побеседовать с моим государем о политике.
В первый раз это было на празднике двухсотлетия основания Санкт-Петербурга Петром Великим, этим титаном-реформатором нашей страны. Газеты были полны статей, посвященных победам и реформам создателя современной России. Однажды я с энтузиазмом заговорил о первом российском императоре. Царь, похоже, не желал развивать эту тему. Зная, каким уклончивым он бывает во время беседы, я все же осмелился спросить его, разделяет ли он мои взгляды. Немного помолчав, император ответил:
– Я признаю великие заслуги моего предка, но показался бы неискренним, если бы присоединился к вашему энтузиазму… Этот предок нравится мне меньше всех. Он слишком благоговел перед европейской культурой. Он слишком часто топтал российские устои, обычаи наших предков, традиции, передаваемые в народе по наследству… Конечно, это был переходный период, возможно, он и не мог действовать по-другому… Но, учитывая все это, я не могу сказать, что восхищаюсь его личностью…
Во время дальнейшего разговора у меня сложилось впечатление, что царь ставил Петру Великому в укор элемент «показухи», присутствовавший во всем, что он делал. Кажется, я даже слышал, как мой августейший собеседник произнес слово «авантюрист».
По-видимому, император надолго запомнил высказанное мной восхищение Петром Великим.
Однажды в Крыму, поднимаясь на плато Учан-Су, откуда открывался великолепный вид на Ялту и ее окрестности, император рассказал мне, какое удовольствие приносит ему посещение Южного берега Крыма.
– Как бы мне хотелось поселиться здесь навсегда, – сказал он.
– Ваше величество, а почему бы тогда не перенести сюда столицу?
– Должен сказать, – ответил монарх, – что эта мысль часто приходила мне в голову.
К нашей беседе присоединились другие офицеры. Одни полагали, что горы расположены слишком близко к морю, другие говорили, что здесь слишком мало места для общественных зданий.
Один сказал:
– А где же будет размещаться Дума?
– На вершине Ай-Петри, – предложил кто-то.
– Но Ай-Петри зимой покрыта снегом, и будет невозможно подниматься туда на заседания парламента.
– Это и к лучшему, – сказал адъютант.
Через полчаса на обратном пути царь оказался рядом со мной на узкой тропинке. Повернувшись ко мне, он сказал, сдерживая улыбку:
– Нет, это невозможно. Кроме того, если мы заложим столицу на отрогах этих гор, я, определенно, перестану любить их. Воздушные замки! – Затем, после недолгого молчания, он рассмеялся. – А что касается вашего Петра Великого, то, если бы ему в голову пришла такая мысль, уж он-то точно воплотил бы ее в жизнь, несмотря ни на какие политические и финансовые трудности. Он никогда бы не спросил себя, выиграет ли Россия от его бредовой идеи!
Больше мы темы царя-реформатора не касались.
Антипатия к великому создателю современной России весьма гармонировала с характером и менталитетом Николая II. Вспоминается, как в самом начале своего царствования молодой царь принял депутацию от одной из провинций России и дал ей резкий отпор, который эхом разнесся по всей стране. Эти делегаты были пропитаны либеральными идеями и искренне мечтали о конституции. В ответ на их выступление царь произнес короткую речь. По тону она была отрывистой, словно военная команда, и заканчивалась печально знаменитой фразой:
– Оставьте эти бессмысленные мечтания!
Эта первая публичная речь молодого царя прозвучала словно гром с ясного неба для интеллигенции, какое-то время надеявшейся, что Николай II вернется на путь либеральных реформ, с которых так успешно начал свое царствование его дед Александр II и от которых так решительно отказался его отец Александр III.
Нельзя быть слишком предусмотрительным
Мой второй и последний разговор о политике с Николаем II касался Болгарии. Он произошел в 1912 году. Заканчивалась война с Турцией – и болгарская армия была измотана неимоверными усилиями.
Сделав несколько замечаний по общей политической обстановке, он заговорил по теме:
– Я очень жалею Болгарию, но не могу жертвовать русскими солдатами ради того, чтобы она покрыла себя победными лаврами. – После короткого раздумья он добавил: – Вам лучше вообще не отвечать Дмитриеву. Я не хочу доводить его до отчаяния… Я всем сердцем на стороне болгар, я восхищаюсь мужеством их маленькой армии. Но малейшее вмешательство с моей стороны может спровоцировать войну в Европе. В таких вопросах нельзя быть чересчур осторожным.