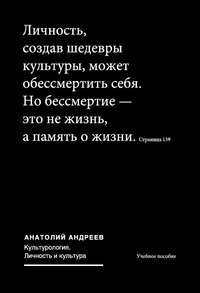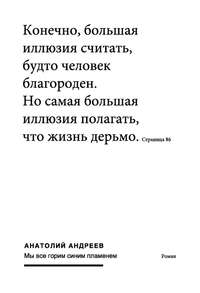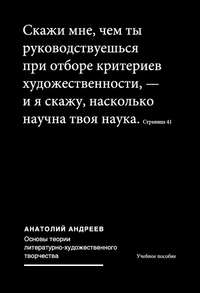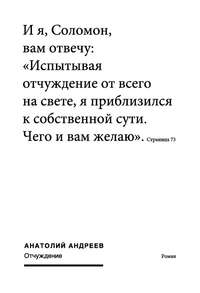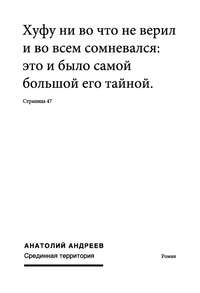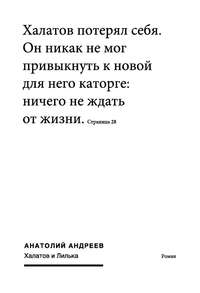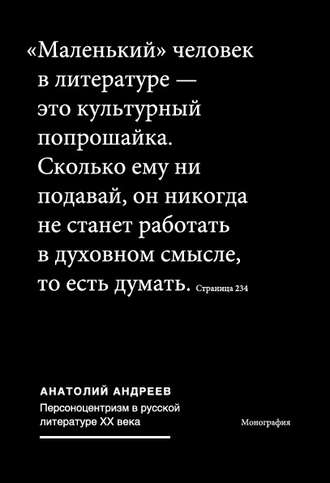
Полная версия
Персоноцентризм в русской литературе ХХ века
Для тех, кто не верит, не может поверить в подобные «чудеса», ответ очевиден и не требует никаких доказательств. В силу доверия собственному житейскому и творческому опыту, в силу здравого смысла. Просто потому, что так не бывает.
Таким образом, осознанные и бессознательные моменты опорной «концепции» инициаторов и возбудителей «шолоховского вопроса» могут быть сведены к феномену психологической установки. В подобном случае ни компьютерный анализ «Тихого Дона», ни найденная рукопись, подтверждающие авторство Шолохова, не являются достаточными и убедительными аргументами. Вера живет не благодаря и не вопреки доказательствам; она вообще порождена не ими, а определенными потребностями.
На первый взгляд, ретивым разоблачителям классика, адвокатам самоочевидной истины трудно что-либо противопоставить. Разве что соизмеримый контрпсихоз и бум. Но это означало бы перевести дискуссию исключительно в психологическую плоскость, психологизируя и без того начиненную страстями проблему. Полемизировать с иррациональными в своей основе доктринами логикой рациональных аргументов – дело заведомо неблагодарное: мало того, что оппонент тебя в любом случае не услышит, ты же и окажешься в смешном положении, поскольку сражаешься с тем, чего нет, с миражами и фантомами.
В таком случае имеет смысл не ввязываться в обмен аргументами и контраргументами (сам факт дискуссии как бы легитимизирует антишолоховскую лжеверсию, придает несуществующую важность и весомость позиции тех, кто с «фактами в руках» развенчивает «сотворенного» кумира), а посмотреть на ситуацию с иной стороны.
Факт становится или не становится аргументом только в смысловом контексте концепции. Попытаемся рационализировать означенную психологическую установку и выявить ее концептуальную основу, позволяющую усомниться в любом непреложном факте, исказить самые бесспорные реалии до степени «наоборот».
Молодому Шолохову (автор издал первую и вторую книги «Тихого Дона» в возрасте 24 лет) предъявляют требование, которому не соответствует, да и не может соответствовать ни один ярко выраженный художественный гений. Вопрос, воль– но или невольно, сводится к тому, насколько готов или не готов был будущий летописец исключительных по своей важности для судеб нации событий к сотворению собственной историософской теории.
Но Шолохов не создавал свою версию философии истории как таковую. Он создал художественный эпос, в котором эта концепция «растворена», присутствует; вместе с тем судить эпос надо не по законам концепции, а по законам эпоса. Эпос – отнюдь не является иллюстрацией концепции (которую, возможно, было бы слишком легкомысленно приписывать столь юному самородку-философу), а формой существования художественной модели, которая имеет и сложный концептуальный, идейно насыщенный аспект. Модель, имеющая философский план, и собственно философский план – не только не одно и то же, но принципиально разные вещи. Объяснимся.
Претензию к Шолохову можно сформулировать в форме вопроса: отдавал ли себе отчет новоявленный гений, осознавал ли, какой глубины идейная концепция лежит в основании его созданного великим трудом художественного творения? Или: способен ли был Шолохов в абстрактно-логической форме изложить и концептуально увязать («просопрягать», как сказал бы его непосредственный «эпический» предшественник Л.Н. Толстой) те истины, которые он оживил художественно?
Подразумевается – нет, и на этом основании решительно отлучают реального автора от созданного им детища.
Эта проблема – вечный пробный камень для литературоведа. Претензию к Шолохову с равным успехом можно было адресовать и Пушкину, автору «Евгения Онегина» (мера художественной одаренности гения, начавшего свой в высшей степени концептуальный роман, когда ему еще не исполнилось 24 лет, – просто запредельна для нормального человеческого сознания), и Лермонтову, автору «Героя Нашего Времени» (законченного в 25 лет). Примеров – достаточно. Шолохову, очевидно, не прощается не столько гениальность, сколько ее идеологическая направленность, как это часто бывает.
Вернемся, однако, к корректности «претензии». С подразумеваемым «нет» не все так просто. Совершенно верно: нет, Шолохов не мог осознавать в полной мере значения той художественной модели, того – без скидок – философского полотна, которое сотворено было его гением. Значит ли это, что такую неспособность художника слова можно рассматривать как аргумент в пользу его неавторства (и, естественно, неизбежного «плагиата»)?
Тысячу раз – нет.
Чтобы понять логику претензии и ее изначальную каверзность, надо разобраться (хотя бы бегло, на уровне тезисов) в природе художественного сознания.
Существует два типа сознания: моделирующее и рефлектирующее.
Первое способно образно-модельно воспроизводить мир, в бесконечных вариантах и вариациях реализуя свою творческую природу. Такое сознание «мыслит» наглядно-конкретными моделями, и оно призвано не понимать и объяснять, а именно моделировать, т. е. «показывать» целостные, неделимые клубки смыслов, выводимые из моделей-картин.
Второе сознание ничего не создает, оно исключительно анализирует, т. е. умозрительно разлагает всевозможные «модели» на элементы с последующим умозрительным же синтезом. Именно это сознание и «выводит» смыслы из моделей, выявляя их внутреннюю согласованность, доходящую порой до степени концепции.
В «чистом виде» эти два типа сознания не пересекаются, однако в чистом виде они на практике и не существуют. В различной степени одно сознание присутствует в другом. Это возможно потому, что рефлектирующее сознание возникло на основе моделирующего. Конкретно-образное мышление с течением времени становилось символическим (символ – уже обобщение целого класса предметов и явлений), символ же, в свою очередь, смог превратиться в нечто себе противоположное: в абстрактное понятие.
Символический образ и понятие – это не просто два различных способа мышления, они выполняют совершенно разные функции. Отсюда – абсолютно разные возможности в отражении и познании мира. Творческий гений может изобразить все, не обязательно при этом осознавая и понимая (отдавая себе отчет, т. е. рефлектируя) смысловую логику картин. Интуитивно поставленные в определенную зависимость отношения внутри художественной модели создают впечатление мощи интеллекта. На самом деле – это прежде всего изобразительно-выразительная мощь, креативные потенции моделирующего сознания, часто беспомощного в объяснении того, что оно «натворило».
Таковы гносеологическо-психологические предпосылки всякого значительного художественного феномена – вопрос, относящийся к философии и психологии творчества. Если иметь в виду специфику моделирующего сознания, можно понять, как молодой человек сумел интуитивно «постичь» сложнейшие смыслы бытия. Моделирующее сознание подспудно вбирает в себя логику взаимоотношений разных сторон жизни, пропитывается ею, а потом умеет ярко воспроизвести ее. Такое сознание «чувствует» и «ощущает» гораздо больше того, что оно «понимает». Жадно напитываясь картинами и образами, творческое сознание может «взорваться» и породить самые глобальные модели. В этом и состоит отличительная черта художественного слова. (В данном контексте, заметим, школа жизни, пройденная Шолоховым, в определенном смысле стоит многих университетов; именно биография, подобная шолоховской, может выступить непосредственным фактором творческой активности.)
Рефлективный же комментарий модели уже вскрывает и объясняет как суть изображаемых феноменов, так и суть самого творческого процесса изображения.
Остается добавить, что моделирующее сознание функционирует на базе психики, рефлектирующее – сознания как такового.
Намеренное (или ненамеренное) смешение таких, казалось бы, академических категорий, как типы сознания, следует расценивать как намеренное (или ненамеренное) запутывание проблемы с последствиями серьезными и вовсе не академическими.
Писатели и поэты неоднократно «проговаривались» по поводу специфики художественного творчества, предлагая ключ к верному истолкованию самих себя. Вот одно из самых впечатляющих и ярких свидетельств:
Стихи растут, как звезды и как розы,Как красота – ненужная в семье,А на венцы и на апофеозы —Один ответ: – Откуда мне сие?Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты,Небесный гость в четыре лепестка.О мир, пойми! Певцом – во сне – открытыЗакон звезды и формула цветка.М. Цветаева«Во сне» – означает: бессознательно, без ведущего участия рефлектирующего сознания. Возможно ли постигать «законы», «формулы» и концепции и при этом как бы не замечать свои «открытия»?
Сон разума – способствует рождению смыслов, к которым разум, монопольный смыслопроизводитель, как бы непричастен?
Вполне возможно, если учесть диалектику взаимодействия разных уровней единого сознания.
Как видим, степень сопричастности разума к художественным концепциям, да и вообще закономерности функционирования художественного сознания – достаточно тонкая материя для того, чтобы привлекать в эксперты всех и каждого и с «наглядной очевидностью» демонстрировать «всем» невозможность того, что не может быть никогда. Апелляция к неискушенному в вопросах психологии творчества сознанию – механизм (в основе которого – трюк), превращающий литературный факт в общественно весомый, «содержательный» миф.
Можно сколько угодно иронизировать по поводу неспособности (или удивительной способности) гения не ведать, что он творит, но факт остается фактом: художник даже уровня и класса Шолохова выступает прежде всего и главным образом как творец, но не как аналитик своего творчества. Насколько корректно в таком случае предъявлять ему вышеприведенную претензию? Может ли сама такая претензия выступать аргументом в споре об авторстве?
Однозначно: не может.
Если такая претензия несостоятельна по существу (а не по субъективно-психологическому ощущению), если «мальчишка» Шолохов, не кончавший университетов, все же мог написать роман тогда вопрос об авторстве следует переводить исключительно в сферу «фактической» (без психоидеологической подоплеки) аргументации. А с фактами справился даже компьютер. Вопрос должен быть снят. Но…
Не было бы у шолоховского вопроса психологического измерения – не было бы и самого вопроса. Он бы просто «провис», не находя опоры в массовом сознании. Иррациональная основа – лучшая почва для «вопросов». Мы имеем дело не столько со спорными фактами, сколько с мифом, для возникновения которого всегда необходима аура загадочности, содержащая возможность психологически убедительного «разоблачения» (или, напротив, возвеличивания).
Тут-то закономерно возникает встречный вопрос: кому выгодно?
Всякий общественно сколько-нибудь значимый миф неизбежно превращается в фактор идеологии и политики, и эксплуатацией его начинают заниматься люди так или иначе ангажированные. Именно в этом и ни в чем ином следует искать истоки удивительной живучести «проблемы», которой, при ближайшем рассмотрении, не существует.
Но нет худа без добра: наличие «проблемы» само по себе свидетельствует о том, что мы имеем дело с потрясающим художественным феноменом – феноменом Шолохова.
А к мифам, по большому счету, надо относиться как к неизбежным спутникам всякой национально представительной фигуры, особенно сегодня, когда мифотворчество при фантастической эффективности современных СМИ индустриализировано и поставлено на поток.
Шумные мифы минутся, а «Тихий Дон» останется.
2. Самый русский роман («Тихий Дон»)
1Чтобы ответить на вопрос, почему шолоховский роман является «самым» русским, следует выяснить, что мы будем иметь в виду под качеством «русский».
Русский роман, кроме того, что он написан о русских и на русском языке, воплощает в себе особую модель отношений человека с самим собой, другими как микросредой и, наконец, типом социума (макросредой) со своими традиционно сложившимися ценностными установками («в старину было, а нам – к старине лепиться»), которые реализуются также в отношениях с собой и другими.
Русский – это тип отношений, где преобладает регуляция не «от ума» (умом – не понять), а «от души», от широкой и размашистой душеньки, где стремление к справедливости важнее принципа сиюминутной, и даже долгосрочной выгоды. Жить «от души» – значит от психики с ее главенствующим императивом «приспосабливайся, а не преобразовывай, верь, но не познавай».
Однако широкая душа – это уже умная, чуткая душа, в какой-то степени опробовавшая узду рефлексии, уже догадывающаяся, что ум и есть условие сохранения и развития души, а потому тянущаяся к разуму и одновременно презирающая его «логику». Вот такое смутное пограничье, маргинальность при отчетливой доминанте все же иррационального («азиатского») начала и есть русский путь и русский способ освоения действительности. Если его опоэтизировать, то получим «Россию – Сфинкс», в которую «можно только верить» и т. д.
«Тихий Дон» – далеко не первый русский роман, однако описанная архетипическая модель стала в нем самоценным зерном смысла. Собственно, ради этого и писался роман, что было бы прежде всего продекларировано, если бы роман писался умом. Но «роман» – это еще и русский, художественный способ думать и познавать (поэтизация этого способа – гибридная форма «роман в стихах»). Говорится одно, а сказывается другое. Вот то, что «сказалось» в романе помимо воли и сознания автора, тот замысел, который, возможно, не был ясен самому творцу (хотя он и только он мог реализовать его), и будет нас интересовать. Русское можно познать только нерусским, рационально-аналитическим способом, при этом надо носить русское в душе, иначе анализ будет скользить по поверхности, схематически окольцовывая «общие» смыслы. Короче говоря, общий аршин – к уникальной душе.
2Русские любят романы в стихах и поэмы в прозе. Начало «Тихого Дона», да и многие фрагменты этого эпохального полотна, есть не что иное, как эпопея в стихах. В приводимом отрывке повествователь, комментатор русского пути, роняет поэтическую слезу. (Подобного рода фрагменты, заметим, выполняют функцию своеобразных лирических отступлений, сообщая «суровой прозе» поэтическое начало.) «Мелеховский двор – на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше – перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, – Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, живущой придорожник, часовенка на развилке; за ней – задернутая текучим маревом степь. С юга – меловая хребтина горы. На запад – улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.» (Цитируется по изданию: Собр. соч. в 8 томах. – М., Изд. «Правда», 1980.)
Перед нами хорошо обжитая вечность. Изысканная звукопись в сочетании с оригинальной метафорикой и лексикой придают лиро-эпическому зачину терпкий колорит. Сдержанный, размеренный синтаксис словно бы «гасит» страстно трепещущую интонацию. Еще ничего не произошло. Но уже чувствуется, что на этом клочке Земли, географически осененном крестом, будут разворачиваться вселенской значимости события.
По сути, это стихи в прозе. Но лирическими средствами эпопею не создашь. Необходимы еще те поэтические элементы, которые приспособлены в художественных произведениях под передачу преимущественно мысли. В первую очередь – расстановка персонажей, сюжет, предметные и речевые детали, не говоря уже о «чистой» рефлексии героев.
Нас будет интересовать то, что можно было бы назвать ситуацией, а именно: тип конфликта, диктующий подбор персонажей по «амплуа» и намечающий взаимоотношения между ними. Нам важно уяснить точку отсчета, увидеть некое предварительное смысловое соотношение, баланс идеологических противовесов – архетип, определяющий все остальные архетипы, если угодно. Так понятая ситуация будет определять сюжет и архитектонику эпопеи.
Прежде чем поместить Григория Мелехова между двух мировоззренческих, точнее, идеологических правд, «красной» и «белой», автор-повествователь заставляет гришкино сердце разрываться между «порочной», а потому неотразимо привлекательной, красотой Аксиньи Астаховой (воистину красной девицей) – и полной чистой (белой) непорочной добродетели, «чистой внутренней красоты» Натальей Мелеховой. Если ты «чжигит» и казак, и в тебе играет кровь с молоком, и любишь ты жизнь и любовь – как устоять супротив чар «крупного, полного тела» Аксиньи, да «пухловатых», «чуть вывернутых губ», да «полымя черных глаз»? Вот рядополагающее сопоставление: «Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки» – «Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода» (кстати сказать, у Григория тоже были «завитки», только «жесткие, как конский волос»). Аксинья не просто «распрочерт»-баба, но стихия, непосредственное продолжение природных сил и чар. У «ленивой волны» и «студеных ключей» (тех самых, что «со дна меня, тиха Дона» – см. эпиграф) искала и сама Аксинья излечения от «поздней горькой» бабьей любви, что цветет «не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным». В романе очень многое «запаралелено» с природой, но Аксинья даже и не выделена из нее.
С другой стороны, если ты мужчина, надежа и опора, можешь ли ты вероломно отвергнуть мать своих детей, разрушить дом и семью, легкомысленно замахнуться на вековые уклад и традиции казачества?
И Гришка запутался – не потому, что он не знал, чему отдать предпочтение, не мог разобраться, где более справедливости, а потому, что душа его оказалась способной вместить относительную правду разных отношений. Он понимал, что он должен делать, и вместе с тем остро чувствовал: охота пуще неволи. Широта натуры сгубила Григория. Сузить бы Григория Пантелеевича ради его же жизнеустойчивости – так ведь на «узком» эпопею не создашь.
Живя с женой другого или уходя с Астаховой от «венчанной» жены, он поступал аморально, но небезнравственно. По-своему он был прав, как бывает право сердце, которому не прикажешь. «Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей», – «хутор поговорил бы и перестал». Но «вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно». Любовь – преступна, а короткая связь – нет. Отчего же? Не оттого ли, что в интрижке с жалмеркой нет «ничего необычного, хлещущего по глазам», что это свидетельство обычной человеческой слабости, а вот в любви есть сила и вызов? Общество не прощает тех, кто вольно или невольно возвышается над ним, кто не такой, как все. Не случайно «мелеховский двор – на самом краю хутора». (Еще дед Григория, «бирюк» Прокофий, наперекор всем обстоятельствам истово любил свою иноземку-жену, пленную турчанку.)
Живя с Натальей и любя Аксинью – он вновь попадал в ситуацию, когда любой выход из нее чреват был непосильными для него жертвами. Вот гениально прочувствованная модель: и в Аксинье, и в Наталье было то, без чего Григорий не мог жить полноценной жизнью; однако совместить их – значило обречь себя на невыносимую пытку, ибо натура требовала совмещения противоположностей и одновременно не принимала скандальность их совмещения.
И Гришка чисто по-русски выходил из положения: бросался из крайности в крайность. Любой квалифицированный психолог сегодня подтвердит вам, что подобную ситуацию сердцем, душой, интуицией, эмоционально-психологическим штурмом – конструктивно не разрешить. Наживешь еще большую беду. Необходим труд мысли, а потом уже и в связи с холодным расчетом – труд души. Григорий обречен был на катастрофу потому, что стремился поступить «по совести» в ситуации, где он так или иначе был бы «преступником». Безумству первобытно искренних поем мы песню…
Еще раз: проблема не в том, что Григорий встретил Аксинью в тот момент, когда она была замужем (это значило бы, что за случайным нет закономерности, то есть глубины); проблема в том, что душа казака гениально отзывалась на противоречиво устроенный мир, оказалась вездесущей, вселенской, адекватно широкой космосу. «По совести» выделить как лучшую какую-либо зазнобу, каждая из которых была необходимым звеном в замысловато устроенной картине мира, – просто невозможно. Категории лучше – хуже перестают работать – и в этом ужас для широкой, но малопросвещенной души, разметнувшейся на полсвета. Высокой культуры, то есть диалектически воспитанного ума как инструмента выстраивания отношений с миром и ориентации в нем, – Григорий был лишен по определению. Такой вот, с позволения сказать, духовно-художественный эксперимент.
Для русского сознания красные и белые (или, скажем, Россия – казачество) неизбежно должны были появиться, собственно, они были всегда – на социально-психологическом и одновременно бытовом, что ли, локальном уровне. А вот как социально-политическая стихия и катастрофа «красное колесо» обрушилось как бы внезапно, словно бы ниоткуда и будто бы немотивированно. Вот если бы Аксинья не была замужем… Вот если бы не было первой мировой войны… Войны бы не было, а куда девать менталитет русских, который сложился к этому времени именно в таком диалектическом дисбалансе, который видел божий мир в бело-красной гамме? Или – или… Сцен дичайшего и необузданного насилия в жизни вполне мирной предостаточно в честном романе.
«Тихий Дон» – о вечном, о русском как таковом. Кстати сказать, батюшка Дон, Дон Иванович становится и метафорой широко и могуче раскинувшейся русской души, русской натуры, то неукротимой, то ласковой, то величавой, обманчиво «тихой», и, что бы там ни было, неисчерпаемой и неиссякаемой. События эпопеи происходят на Дону, на дне души. Мы не станем разбирать красно-белую аргументацию. Всякая отдельно взятая идеология самодостаточна для ее апологетов и ущербна до самоочевидности для врагов. В чужом глазу соломинку – это об идеологах. Важно не чья идеология оказалась более верной (не забудем: у нас есть «незаметное» преимущество судить из относительной глубины исторической перспективы), а то, что Григорий чутко улавливал главный посыл, «правду» «красной» или «белой» модели мира. Он не мог отказать в правоте ни тем, ни другим – хотя прекрасно видел кровавые «издержки», которые предпочитали не замечать горячие головы из ортодоксальных непримиримых. Он был «на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их». Естественно, и те, и другие упрекали его в непоследовательности: «ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизню мутят!» Как и в случае с Натальей и Аксиньей, он оказался свой среди чужих, чужой среди своих. Лишний. Ну не мог он сузить свое стихийно здравое и до болезненности склонное к справедливости мировосприятие до амбразуры одной идеологии! Правда одних не отменяла для него правду других. Никудышный из него вышел революционер. Он опять кругом был виноват. «Она, жизня, Наташка, виноватит…» «Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый…»
Отношения с Натальей и Аксиньей стали предтечей или репетицией куда более кровавого и разрушительного противостояния. С личного уровня – на общественный, исторический, но ведь «механизм» освоения и совмещения противоположностей оказался идентичным. Проблема вновь заключалась в том, что Гришка влип между жерновами двух правд, в каждую из которых был впаян свой кусок истины. Выход из подобного тупика, давно известному человечеству под названием трагического, можно было искать только с помощью разума. А Гришка честно и благородно, по-русски, искал с помощью «вещего» сердца, интуиции – то есть делал все для того, чтобы трагическая ловушка сработала. Со всей душой пытался разобраться в жизни – и добился только того, что душа опустошилась: «Я сам себе страшный стал… В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе…»
По большому счету, в гришкиных поисках правды отражены противоречия разумного и душевного подходов, философского и идеологического, рационального и иррационального, сознания и психики. Григорий, будучи классическим маргиналом, оказался умнее, чем было нужно для выживания, но не настолько, чтобы самостоятельно распутать клубок социально-политических, идеологических и собственно психологических противоречий. Для выживания необходима была либо психоидеологическая броня, либо интеллектуальный, философский панцирь. Он оказался лишен и того, и другого. Все это предопределило чисто русский комплекс – недоверие к разуму. «Спутали нас ученые люди… Господа спутали! Стреножили жизню и нашими руками вершают свои дела,» – горячился Григорий, который «захворал тоской». У него «сердце пришло в смятению» и «помутилось в голове».