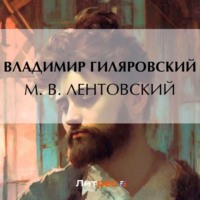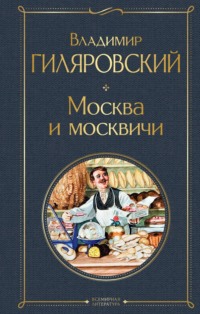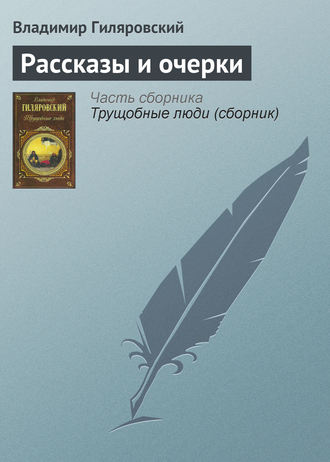 полная версия
полная версияРассказы и очерки
Вспомнил про табачок Суслик, рванул тавлинку и мне поднес.
– И я от него занялся нюхать еще мальчиком. От него сказки и бывальщины перенял. Впрочем, он редко сказки, больше бывальщины рассказывал да про свои дела, про жизнь острожную, про побеги там… Бывало, всю ночь его слушаем. А сказки я от бабки. Та больше про богатырей, про нечистую силу, про царство подводное, где во дворцах у водяного царя живые люди живут, которые на кораблях утонули. Про Змея-Горыныча… Уж вот как ладно у нее все выходило… И сказывает и поет сама… Про Ягу-бабу и что с Иван-царевичем в ступе на Лысу гору летала – она сама помелом облака разгоняет, а он на гуслях играет… А бабка и говорит и поет, а на губах трень-трень, как на гуслях… Слушаешь, закроешь глаза – и все как живое видишь. Про змия огненного, который к колдунье по ночам в трубу летал и со всего света вести ей собирал для колдовства, рассказывала… Помнишь, Ликсеич, я на заводе все их рассказывал.
Остановился старик, глядя на меня.
* * *Понюхал он табачку, меня угостил и спрашивает:
– Ликсеич! Скажи ты, напожалуста, как по-твоему? Откуда сказки родились, вот вроде Иванушко-дурачка и ковра-самолета? Ведь их не придумаешь… Так смекаю, что в старину старинную все это было, а потом у кого-нибудь – уж у внуков-правнуков – отрыгнулось? – А, ну-ка…
Не успел я ему слова ответить, как с поднявшейся левой бровью и сверкнувшими глазами ухватил меня за руку и шепнул:
– Слышишь?
– Что? Ничего не слышу…
– Нет, ты послухай… Быдто кипит… Слухай сюда.
Я приложил ухо и слышу, что под землей булькает и журчит, о чем сказал старику.
– Тот-то вот и оно-то. Смола кипит. Пойдем-ка на другое место… А ты говоришь…
Скажет слово и губами пожует. Должно быть, слово подыскивает.
– Это вот среди бела дня… А ночью… Годов тридцать, а то и поболе, может, сорок, мы с одним бурлачком, тоже дурак, явились сюда клада искать. Ну рыли, рыли – целый день промучились и заночевали… Так насилу до утра дожили – и бежать. Вот гудело под нами!.. А потом треск – будто камень кто-то грызет… Пирог-то каменный ты нашел? А то кости вот каменные валяются… Вот видишь, ведь прямо-таки мосол перегрызанный – ан он каменный. Вот я тогда и поверил. Может, Степан-то его грыз…
Я не хотел его опровергать и читать лекцию об окаменелостях и подземных ручьях, а для перебоя разговора прочел, к его великой радости, опять «Утес» Навроцкого. Когда я закончил словами:
И утес-великан все, что думал Степан,Все тому смельчаку перескажет…– Это правда, – сказал Суслик. – Может, он и говорит что, да не всякому дано понимать… Аль еще время ему не пришло… Такой человек не народился. Ведь все сюда приходили только с корыстью – клады искать… Ишь расковыряли… Вот ты, Ликсеич, пришел сюда… Так пришел, из любопытства, потому что вон как про него песню написал. Тебе это и надо… Другого бы я ни за какие деньги не повел сюда… Ну скажи еще, как его казнили-то…
Я читал ему стихи. Потом перевел разговор на его прошлое, и опять он начал речь о сказках и бывальщинах, как они родились.
– Ты думаешь, я так везде все одно и то же сказываю?.. Как выйдет. Вдругорядь приплетешь к сказке и чего нового… И бывальщины тоже. У бурлаков одно сказываешь, у мужиков другое, а у раскольников свое надо говорить. Они охочи слушать, только не все, сказок не любят, да и бывальщину им надо про скиты да про то, как бедному человеку от начальства страдать приходится… Еще про острожное житье каторжное любят… А видел-то я, старый бурлак, много чего… И Волгу от низов до Рыбны раз десяток смерил, и в острогах сиживал – прямо тебе, Ликсеич, говорю, только тебе, и у раскольников не раз зимовал… И на Черемшане, и на Иргизе, и в вологодских лесах бывал у поморов благочестивых, что чашкой-ложкой отпихиваются от мирского греха… А зато как нашему брату вольно и отдохновенно у них! Сами они от начальства скрываются и нашу нужду потому понимают. Вольно у них! Придешь – не спросят, кто ты да откуда, – садись да обедай! Только табаку не кури в скиту, а нюхать так норови, чтобы не видали. Под носом чисто держи, а то заметят – беда! А тихо да мирно – живи да спасайся на покое да весны дожидайся! Ведь знают они, что только перезимовать пришел вольный человек, а весной утечет за первой водой по ручьям да по речке вилять до Волги-матушки, навстречу птице, туда норовишь, откуда на свое гнездовье птица летит. Никто не спросит. Скажут отцы седые-бородатые в ответ на поклон: «Иди в сборную! Живи. Там ваших, что от начальства-антихриста спасаются, немало…» И никто тебе в душу не заглянет. Понимают они по себе, что правду сказать тебе негоже, а тутошние люди все по правде живут и других вопросом неладным в грех не вводят. И на что им чужую душу ворошить, в чужой колодец заглядывать? Ведь все равно ничегошеньки в темноте глубокой не увидишь, а ежели солнышко осветит глубь водицы сверху, то еще как выйдешь!
* * *Придешь в сборную – на отлете, в самом лесу изба большая для нашего брата постановлена – как домой в нее идешь. А там уж свои люди знакомые, свои ребята, кто с борку, кто с сосенки. И живешь зиму-зимскую долгую, студеную, никто с нас ровнехонько ничего не спрашивает, отпускают хлеб и приварок невпроед, а кашевар из своих. Охотой своей идем мы в лес – работаем; дрова рубим, либо стройку какую, что покажут. День работаем, а ночи наши. Так и спасаемся до вешней воды. В ночи бессонные, когда лучина в светце погаснет, самые тут бывальщины и польются. Народ все такой, что каждому есть что порассказать. И кто что видел и кто что слышал, цел ли такой-то, сгорел ли такой-то, вернулся ли этот из-за бугров. С бывальщины на сказку, со сказки на бывальщину…
* * *А то раз зимовал сторожем в женском скиту, где кружевницы и вышивальщицы жили… И все присматривался, как они на своих подушках с кружевами мастерили. Где нитки, где дырки, а выходит то, что век не забуду: то это на кружеве избушка, около нее елочка, и дымок из трубы курится… А то келейка, на келейке, на князьке петушок… Гляжу через ее плечо в окошко, а напротив стоит точь-в-точь такая келейка и петушок живой на князьке… То монашек в лодке плывет. А ежели это кружево положить на синюю нанку, так по морю синему он плывет… А ведь этот петушок да монашек в душе у той кружевницы жили! Вот она свою душу для других и выложила.
Так и бывальщина вроде петушка на кровле, а сказка – монашек в лодке…
Так и сказки и бывальщины! Льются-вьются они в ночи темно-бессонные и ложатся в памяти у тех, кто их слушает. Да не всякому дано кружево плести! Другая так сплетет, что заместо петушка-то Змей-Горыныч, чудище объявится, а вместо монашка в лодке не то кит-рыба, не то еще что страшнее. И выйдет тогда сказка из бывальщины! А который знаемый, в ней бывальщину увидит… Ведь видели же кружевницы петуха на кровле? Живой кукарекал, на солнышке крылышком хлопал! А у другой он чудовищем выходит!
Так-то из бывальщины сказки родятся. А другой от себя чудовинное приплетет, что в голову взбредет.
* * *Ходили и лазили мы на вершине утеса, показывал мне Суслик и ту яму, которую сам копал за кладом.
– Во, гляди, я ее махонькую оставил, а на место ее какая прорва – другие старались! А эта прорва уже дубком заросла…
Свежих ям не было – все позаросшие… А их много, много… Останавливались, опять сидели, и опять все о Стеньке Разине легенды он рассказывал… Теперь их повторять нечего – почти все они напечатаны в разных путеводителях и поездках по Волге, только не совсем так, как это у Суслика выходило, – всякий свое кружево плел. Никаких сказок он не рассказывал, только что о Разине да о разбойнике Рукше, который еще до Разина был и на этом самом утесе держал свой стан разбойный. О Рукше я помнил его длинный сказ еще на белильном заводе – это смесь Разина и Ермака. Рукша и в Персии был, и царицу персидскую увез, и ушел со своей ватагой Китай завоевывать. И во всех сказках о Разине говорилось только одно, что он живет то в том, то в другом подземелье, где нечистая сила терзает его, и когда он отмучится, грехи свои перестрадает, то опять встанет прежним и народ на царей и на бар поведет, и уж на этот раз изведет всю неправду.
– А все-таки, что ни толкуй, а у нас его ждут… И дождемся, много греха пошло!
* * *Вспоминали прошлую жизнь.
– Никого, думаю я, Суслик, из наших общих знакомых не осталось?
– Не говори… Балабурда жив, Пашка жив… Рука-то у него с тех пор отсохла… Все на тебя серчает, ежели, говорит, найду этого дьявола, я ему кишки выпущу и на локоть намотаю.
– Где ты его видел?
– Да у Балабурды годов семь назад я гнал плоты из-под Перми по Каме в Царицыно, как вот и теперь, да меж Осой и Оханской нас буря вдребезги разбила… Уж и буря была! Леса с кореньями выворачивала, избы поснесло в деревнях… Меня выкинуло на берег около деревни Беляевки замертво. Очухался я, гляжу – в избе лежу; а около меня сидят Балабурда и Пашка. Они меня подняли на берегу и перевезли на лодке в свой лесной хутор, верст десять от Беляевки… С год я у них валандался, да сбежал, смертоубийств много. Выезжали на лошадях, грабили и убивали по дорогам, потом заманивали беглых из Сибири – здесь им путь был, обратникам, а кои с деньгами – убивали да с камнем в воду… Убежал я… Балабурда-то еще торговал в Беляевке, его за купца там почитали. Ну да вспоминать неохота… И то чуть сегодня не попался.
– Как сегодня?
– Да на пароходе признал было меня один из Оханска: «Торговец, говорит, ты в Беляевке, кажется, жил?» Насилу отшился. Притворился глухим, а потом все за трубой лежал рылом вниз, пока не слез в Банновке…
Это он мне рассказывал уже на обратном пути, когда мы спускались вниз к реке.
– Глянь, Ликсеич, вот камень-то, кой ты кинул, пирог как есть.
– Так, думаешь, его Стенька глодал?
– А ты не смейся. – И вдруг остановился, прислушивается, бровь поднялась. – Слышишь?
– Чего?
– А в горе кто-то стонет.
И наклонился ухом к скале. Я тоже.
– Ничего нет.
– Нет? Значит, мне поблазнило.
Я взял камень и сунул его в карман.
– Бросил бы ты его, Ликсеич, ни к чему. Глянь – чистый пирог и угрызен. Кинь.
Я незаметно поднял другой камень и швырнул его в пропасть.
– Так-то лучше.
И успокоился.
А камень я так и привез – пирог и угрызен. Вспоминаю…
Солнце было низко, когда мы подходили к нашей лодке. Издали был виден костер, а около него наши гребцы кашу варили. Мы присели в кустах и еще поговорили.
– Жаль мне расставаться с тобой.
– И мне жаль, Ликсеич!
– Мне бы хотелось твои сказки записать все.
– Их в месяц не запишешь, а я что же, я бы для тебя рад послужить.
– Так вот что, приезжай ко мне в Москву, погости у меня подольше, а то я тебе и местечко схлопочу. Приезжай как домой. Меня не будет ежели, все равно я дома распоряжусь. Ты только скажи, что Суслик, примут как моего друга. А я твои сказки напечатаю, и нам за них заплатят большие деньги. Навек обеспечен будешь…
– Ладно, коли так.
– Буду ждать. Вот тебе мой адрес, пиши, что, мол, приеду, а я тебе на дорогу тридцать рублей вышлю, на чье хошь имя, на какого-нибудь твоего знакомого, если на свое не захочешь… Да я, кстати, и не знаю твоего имени, да мне и не к чему. Суслик для меня дороже…
Мы сговорились. Я дал ему двадцать рублей – насилу уговорил, не берет, – и мы расстались у лодки.
– Ну, прощевай, Ликсеич… Я опять в гору пойду, в Данилиху.
Оказалось, Данилиха была почти рядом с вершиной утеса, но он проводил меня, во-первых, потому, что я бы дороги не нашел, а главное:
– Чтобы сумления не было. А ребята мало ли что подумать могут, привезли двоих, а назад один едет… Все можно подумать.
* * *Шли года, а о Суслике ни слуху ни духу.
И вот теперь, через десятки лет, я заканчиваю эти мои воспоминания о нем у себя в Картине. Передо мной лежит тот самый «угрызенный пирог» Стеньки Разина. Надо мной шумит аэроплан – через нас путь воздушной почты с заграницей, – и вспоминаю слова Суслика: «То, что было сказкой, – стало бывальщиной, что бывальщиной было, чего люди не помнят, – станет сказкой…»
Если бы Суслик видел аэроплан – этот ковер-самолет!
Если бы он слышал радио и видел антенну, от трубы к сухой березе протянутую, а ночью в приемнике огоньки мелькают?..
А Репка, Балабурда, Пашка, сам Суслик, бурлаки, шагавшие тысячи верст в лямке и усеявшие своими костями прибрежные пески Волги-матушки, – эта моя пережитая бывальщина сказкой кажется.
ПО СЛЕДАМ ГОГОЛЯ
От отца, свято чтившего книги Гоголя, с детства проникся я любовью и уважением к этому писателю, а прочитавши «Тараса Бульбу», а позднее и другие его произведения, на всю жизнь остался верным почитателем каждой его художественной строки.
Родство с запорожским казачеством, неостывающая любовь к степям и просторам питали это чувство, и я постоянно тянулся к Гоголю, к его книгам и ко всему, что было связано с его родными местами.
Понятен мой восторг, когда в конце 1898 года я смог поехать на Украину, чтобы повидать гоголевское окружение, а может быть, и современников, знавших его лично.
По делам коннозаводства, которым я издавна увлекался, в январе 1899 года я приехал на Дубровский конный завод близ Миргорода и остановился у заведующего Ф.И. Измайлова, который, узнав о моих увлечениях Гоголем, предложил мне поехать в Миргород и Сорочинцы, дал лошадей и посоветовал, к кому там обратиться за интересующими меня сведениями.
Лошади были готовы, и чудная дубровская тройка быстро, несмотря на занесенную снегом дорогу, домчала меня до Миргорода, до того самого Миргорода, где целиком, с натуры были списаны действующие лица «Ревизора».
При въезде почти во всякий русский уездный город обыкновенно наткнешься на острог. Миргород являлся исключением: это мир-город, где даже острога не существовало, а в предполагавшемся для острога здании едва ли не помещалась школа.
Но впечатление при въезде в город все-таки неприятное: слева от дороги – кладбище, а справа – казенная торговля водкой (монополия).
Пей – и умирай!
Зато далее глаз отдыхал на роскошных зданиях Гоголевского училища, расположенного в молодом саду.
– Гоголевское! – с гордостью говорили миргородцы и сорочинцы. Здесь Гоголем гордились и все бы, кажется, готовы назвать гоголевским.
– Наш Гоголь! – говорили здесь.
Только разве некоторые потомки героев «Мертвых душ» как-то неохотно вспоминали о великом писателе: так метко были описаны их деды и отцы.
Въехав в город, я направился в уездную земскую управу, к председателю С.И. Смагину, с которым еще давно познакомился у Ан.П. Чехова и не раз встречался в Москве. В управе я встретился с местным судебным следователем, старожилом Миргорода, М.В. Домбровским, и тотчас же разговорились о Гоголе. Между прочим, М.В. Домбровский показал мне только что полученное им объявление об издании «Истории русской словесности», составленной П.Н. Полевым, и обратил внимание на прекрасно исполненный рисунок с подписью: «Дом, где родился Гоголь, в сельце Васильевке».
– Прекрасный рисунок, и дом очень похож, – сказал М.В. Домбровский, – только одно неверно, а именно: Гоголь в этом доме только жил, а родился он в Сорочинцах, в доме Трахимовского; домик этот цел и теперь принадлежит становому приставу Ересько. Да не хотите ли проехаться в Сорочинцы? У меня, кстати, там есть дело; а вас познакомлю кой с кем из современников Гоголя. Итак, через час я к вашим услугам, а пока посмотрите Гоголевское училище.
С.И. Смагин провел меня в училище, директор которого С.И. Масленников показал классы, мастерские и музей.
М.В. Домбровский был аккуратен, и через два часа, сделав 24 версты по пустынной снежной степи, мы были в Сорочинцах и остановились перед хорошеньким одноэтажным домом, принадлежавшим О.З. Королевой, современнице Гоголя.
Поднявшись на резное крыльцо с колоннами и пройдя сени, мы вошли в прихожую, где босая дивчина помогла нам раздеться, и затем очутились в большом светлом зале – уставленной цветами и украшенной картинами гостиной.
Нас встретила невысокая старушка в чепце и темном платье. Это и была Ольга Захаровна, небольшого роста, еще очень бодрая, несмотря на свои 75 лет, типичная украинка с добрыми серыми глазами.
Как родного приняла она моего спутника, друга ее покойного мужа, и ласково заговорила со мной, узнав о цели поездки.
Едва мы сели на диван, как в соседней комнате зазвенела посуда, и мы по предложению хозяйки встали и очутились в столовой, за накрытым столом, уставленным всевозможными наливками.
– Это что! – глубоко вздохнула хозяйка. – Разве теперь у нас в Малороссии живут? Да разве так было прежде? А вы удивляетесь на наливки! Чего-чего, бывало, на стол-то не наставят! Да и водки-то какие были, все перегонные: и на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, и зорные от семидесяти болезней, и на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных. Да и пили-то разве так? Пили и никаких катаров не знали!
– А вы, Ольга Захаровна, хорошо помните Гоголя? – спросил я.
– Эге ж! Часто и я у них в Яновщине бывала, и он к нам с матушкой своей и сестрицами в гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его! Бывало, принарядится – так моложе дочерей своих выглядывает. Она пережила своего сына знаменитого. Да, Николай Васильевич большую память о себе оставил, большую! А кто тогда думал! Смирный, тихий был. Сядет за стол, бывало, опустит голову, слушает, что говорят, да изредка нет-нет да и взглянет. А если кому что скажет – как ножом обрежет! Вот с парубками да с дивчатами – другой совсем: веселый, песни поет.
Ольга Захаровна оживилась и, по-видимому, с удовольствием вспоминала далекое былое.
– Бабушка у меня была, – продолжала она, – Софья Матвеевна Аксюкова. Та хорошо по-украински говорила, а Николай-то Васильевич хуже говорил, так он к ней часто ездил поговорить. Кроме того, бабушка знала множество рассказов и преданий из старины, из гетманщины, и сколько она рассказывала Гоголю! Подолгу беседовали, бывало, они. Все это я помню, хорошо помню: молода была тогда и всем интересовалась. Боялись его многие! Ужинать с ним боялись. Вот какой случай был. Собрались раз у одного помещика гости. Приехал сосед, помещик. Этот сосед, большой гастроном, любил больше всего голову коропа-рыбы. Никому, бывало, ее не уступит. Сказал хозяин гостю, что у него за ужином будет короп. Гость весь вечер только и думает, скоро ли ужин, скоро ли коропа подадут! Сели все за стол – вдруг дверь отворяется, и входит Николай Васильевич. Уж он тогда многое написал, все его знали у нас. Пришел, а некоторым ужин не в ужин. Мне уже много после сам гость рассказывал так:
«Вошел, поздоровался да и сел, да на грех рядом со мной. Пошевелиться боюсь – вдруг опишет! Кусок в рот не идет. Подают коропа: жирный, зарумянился, головастый. А я дотронуться боюсь, как на иголках сижу. Так ведь и не ел я, и голова осталась. Дождался конца ужина, да и бежать. Приезжаю домой и спрашиваю у жены ужинать, а та удивляется, как это из гостей да голодный приехал. Ну, и объяснил я ей, что Гоголя испугался». Вот какой был Николай Васильевич.
– А где родился Гоголь? – спрашиваю я.
– Здесь, в Сорочинцах, в доме Трахимовского, близ Преображенской церкви. Там его и окрестили. А Трахимовский был знаменитый на всю округу доктор, к нему много даже из других губерний больных съезжалось. При доме был у него флигелек для приезжих больных, где они останавливались. Вот в этом-то самом флигеле в две комнаты я много раз бывала, и Марья Ивановна остановилась да тут и разрешилась благополучно сынком. В этой же церкви его и крестили. Это мне и сама Марья Ивановна рассказывала, да и все знают.
– Не помните, не говорили вам, какого числа он родился?
– Нет, не упомню.
– Это мы справимся в церковном архиве, если его здесь крестили, – сказал М.В. Домбровский.
И мы решили отсюда отправиться в церковь, но снова заговорились.
– Скажите, Ольга Захаровна, любили здесь Гоголя, после того как его произведения появились в печати?
– Далеко не все. Кто попал к нему под перо, те не любили, вот как не любили! Особенно миргородские чиновники ненавидели: ведь весь «Ревизор» с них списан.
– А вы помните тех лиц, с кого он писал?
– Двоих лично знала: городничий списан с миргородского городничего Носенка, а почтмейстер – с почтмейстера Мамчича. Умерли оба. Смешной этот Носенко был: худой, длинный, чудак такой. А Мамчич – стариком уж я его помню – бритый, седой, на клиросе пел. Все тогда себя узнали: портреты верные были.
– А какой самый лучший портрет Гоголя?
– Изменчивый он был лицом, и все портреты похожи. А самый лучший, самый похожий все-таки в Яновщине, у Н. В. Быкова. Вы помните, – обратилась хозяйка к Домбровскому, – в гостиной висел, в черном, с золотой цепью на шее? Да, это – лучший портрет, все говорят. Он работы Моллера, и снимков с него нет, ни одного напечатано не было. Там, рядом с портретом, есть еще гравюра с Рафаэля «Преображение господне», подаренная Гоголю в Риме профессором Иорданом. Интересна судьба этой гравюры. В Яновщине никто не знал о ее существовании. Она валялась в хламе, на чердаке. Вдруг пришло письмо из Москвы, кажется, от покойного П.М. Третьякова – наверно не помню, с просьбой продать эту гравюру, а о ней никто и не знает! Стали искать, искать и нашли на чердаке, подмоченную, попорченную.
Я посмотрел на Ольгу Захаровну. Она, видимо, утомилась, и мы, поблагодарив гостеприимную хозяйку, дорогую современницу Гоголя, откланялись и направились в дом, где родился Гоголь.
В гоголевские времена дом принадлежал доктору Трахимовскому, потом был продан помещику Чарнышу, а потом Александренку, и от него уже приобрел его настоящий владелец, становой пристав П.М. Ересько.
Шагая по глубокому снегу, мы добрались до Преображенской улицы, и М.В. Домбровский указал мне на маленькую, крытую железом мазанку, белевшую сквозь деревья садика.
– А вот и дом, где родился Гоголь. Зимой он заперт: владелец в нем живет только летом, а теперь П.М. Ересько обитает вот в этом большом, куда мы с вами и направимся, – сказал М.В. Домбровский.
Домовладелец – пожилой, небольшого роста господин, одетый в форменную тужурку, живой, энергичный, несмотря на изрядную седину. Он встретил с распростертыми объятиями М.В. Домбровского, который что-то ему сказал на ухо, после чего хозяин весьма любезно попросил нас в гостиную, где на столе моментально появились всевозможные наливки, которыми Павел Моисеевич славился на все Сорочинцы.
П.М. Ересько двадцать лет служил в Сорочинцах. Дом он приобрел уже несколько лет, и гоголевский флигель сохранил в том же виде, каким он был девяносто лет назад. Только крыша железная, а остальное все осталось по-старому, если не считать небольшой пристройки, сделанной к флигелю сзади.
Флигель был обыкновенная, чисто побеленная мазанка с дверью посередине. Дверь вела в большую комнату с глинобитным полом, в правом углу которой стояла большая печка, а рядом с ней – дверь, ведущая в пристройку. Налево – дверь в комнату, где когда-то доктор Трахимовский располагал своих пациентов и где родился Николай Васильевич Гоголь.
Нет ни Трахимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, с которых он рисовал свои незабвенные типы, а стены домика, слышавшие первый крик великого писателя, были целы.
Особое, совершенно особое чувство благоговения испытывал я в этой чисто выбеленной комнате с четырьмя окнами, два – по одной, два – по другой стене.
Пробыв несколько минут, мы вышли на большой двор, где осмотрели, между прочим, замечательно прочный подвал, сухой, чистый, оставшийся со времен гетманщины. Подвал этот принадлежал гетману Малороссии Даниилу Апостолу, а из подвала существовал подземный ход, ведущий до церкви, которая была выстроена Даниилом Апостолом. А когда она строилась, Апостол, по преданию, по ночам собирал рады в строящемся здании и сам являлся на эти рады через этот ход.
Поблагодарив любезных хозяина и хозяйку за гостеприимство, мы направились к священнику Преображенской церкви отцу Севастиану Павловичу. Было совершенно темно, когда мы подошли к его дому.
Отец Севастиан более десяти лет тому назад разыскал запись рождения Гоголя, прочел ее и опять положил книгу в архив, и с той поры, по его словам, книги никто не видал и не спрашивал.
– Кроме меня знал об этом наш старый священник, отец Роман, но ему на девятый десяток, и он слаб: сегодня я его соборовал. Плох уж стал старичок, а еще помнит все!
Я обратился к священнику за разрешением посмотреть метрические книги за 1809 год, на что получил согласие, и мы отправились в церковь.
Это одна из древнейших церквей Украины, сооруженная Даниилом Апостолом. Церковь была о пяти главах, отделанная лепною работой и освященная вскоре после его смерти, 6 апреля 1732 года. Здесь было много старинных икон. В церкви обращал на себя внимание старинный резной из дерева иконостас замечательно тонкой, художественной работы.
Священник открыл архивный шкаф и вынул старую, но хорошо сохранившуюся метрическую книгу о родившихся за 1809 год. И здесь, в середине книги, на правой странице, внизу, старинным твердым почерком было написано: «20-го марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го марта. Восприемником был… господин полковник Михаил Трахимовский… молитвовал и крестил священнонаместник Иоанн Белопольский». Отец Севастиан выдал мне по моей просьбе форменную, с церковной печатью, выпись из метрической книги.