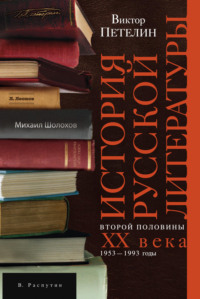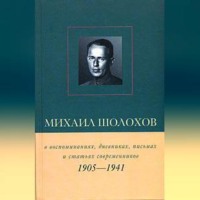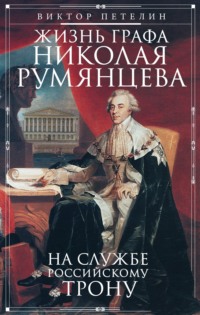Полная версия
Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг.
– Я в стихах некомпетентный, будет проза – пожалуйста.
Пользуясь случаем, я напомнил о своем рассказе, который переслал ему недели две назад почтой на консультацию.
– Помню, помню такой рассказ, только вот прочесть не успел. – Шолохов указал на гору писем и бандеролей на столе. – Видите? И так каждый день. Но на днях я обязательно прочту ваш рассказ. Давайте денька через три созвонимся и встретимся.
На Верхнем Дону в ту пору начался весенний сев. Я уехал в колхозы, и мне не удалось в условленный срок встретиться с писателем. Но через неделю из Вешенской пришло письмо – рецензия на мой небольшой рассказ. Назывался он «Молодая старость». Содержание его вкратце таково. В районе проходит традиционный спортивный праздник казаков-конников. Старый казак с белой пушистой бородой втайне надеется «утереть нос молодым». Но во время скачек старость его подводит.
Передавая этот рассказ на суд большого писателя, я жаждал услышать его слово, получить совет. И мое желание сбылось. Вот что написал Шолохов:
«…«Молодая старость» – по сути – не рассказ. Скорее это очерк, по характеру своему близкий к обычному типу газетных очерков… Согласитесь, что для старика недостаточно повторяющегося упоминания о «белой пушистой бороде», точно так же недостаточно для описания его переживаний вычурной и надуманной фразы: «Неужели я уже в плену дряхлой и т. д.?». Все это говорит о бедности Ваших изобразительных средств, о неумении нарисовать внешний и внутренний облик человека, о примитивизме, у которого Вы (выражаясь Вашим стилем) находитесь в плену.
В рассказе-очерке почти целиком отсутствует диалог. Это омертвляет рассказ, лишает его живого звучания слова. Неблагополучно у Вас и с языком; не очень-то Вы скупитесь, и там, где можно двумя фразами показать движение или позу человека, – Вы тратите на изображение десять фраз.
Все это – обычные недостатки всех начинающих, и самым верным способом избавиться от них является внимательная и вдумчивая учеба на лучших образцах – произведениях прежних и нынешних рассказчиков. В «Новом мире» за этот год найдете рассказы Диковского. Присмотритесь, как он строит сюжет и дает описание. Обратите внимание на разговорную речь его героев. Надо бы Вам почитать кое-кого из западных писателей, например Хемингуэя, О.Генри. Все они – превосходные мастера рассказа, и очень невредно поучиться у них.
26.5.39
М. Шолохов».Самый щукаристыйВ мае 1940 года общественность Вешенского района отмечала 35-летие со дня рождения М.А. Шолохова. В просторном зале казачьего драматического театра имени Комсомола, что красовался на крутом берегу у самого Дона (в войну сожжен фашистами), собрались сотни казаков и казачек.
Я тоже пришел поздравить юбиляра от общественности соседнего, Базковского, района, где в хуторе Кружилинском родился писатель. Мы с приятелем стояли в сторонке и ожидали звонка, когда рядом услыхали шумные голоса каких-то парней.
– А ты знаешь, кто я, кто я такой? – серьезно доказывал заметно подвыпивший черноусый и смуглолицый молодой казачок. – Не знаешь? Спроси у Михаила Александрыча. Мелехов я, Мишатка Мелехов! У меня и сестренка Полюшка была…
Приятель шепнул мне:
– Это тракторист наш, базковский. Он серьезно считает себя сыном шолоховского Мелехова – здорово жизнь схожа.
Прозвенел второй звонок, и толпа у театра поредела, куда-то внезапно, как и появился, исчез черноусый казачок.
– Пойдем, – сказал мне приятель, – ты тут еще и самого Щукаря увидишь.
И через несколько минут я увидел его. Он сидел за столом президиума – невысокий, щупленький, с редкой седой бородкой, с быстрыми игривыми глазками, в синей рубашке-косоворотке, спускающейся почти до колен из-под черного пиджака. Когда председательствующий объявил: «Слово для приветствия предоставляется старейшему колхознику хутора Волоховского Тимофею Ивановичу Воробьеву», по залу прокатился веселый шепоток: «Щукарь, дед Щукарь…»
Старик вышел из-за стола, стал рядом с трибуной и, подбоченясь одной рукой, такую держал речь:
– Нашему Михаилу Александрычу нынче стукнуло тридцать пять годков, с чем мы его и поздравляем. Я его поздравляю особо, потому что он хотя почти вдвое и моложе меня, а вроде как крестным отцом доводится. Меня теперь в районе все кличут Щукарем, а я ить сроду им не был. Все это Михаил Александрыч… Прочли наши волоховские казаки его книгу «Поднятую целину» и в один голос: «Ты, Тимофей Иваныч, чисто вылитый Щукарь, кубыть с тебя Шолохов списывал». С тех пор «Щукарь» так и прилип ко мне. Даже моя старушка при удобстве кличет меня Щукарем. Признаться, донимаю я ее своей веселостью да шутейным словом…
В перерыве после торжественной части один из столичных гостей спросил у Шолохова:
– Что, этот старик Воробьев – настоящий Щукарь?
Шолохов засмеялся:
– Может, и не совсем настоящий, но самый щукаристый у нас в районе.
«…Публицистом быть обязан»В послевоенные годы мне довелось пять лет работать в редакции вешенской газеты «Большевистский Дон», переименованной затем в «Донскую правду». Помещение редакции находилось через дорогу против дома Шолохова, а домик, в котором я жил, примыкал к его усадьбе. Проснешься, бывало, поздней ночью – и видишь, как в темном окне второго этажа долго краснеет жарок папиросы. Не спит писатель. О чем он думает, глядя из окна на давно уснувшую станицу, на темнеющий на том берегу лес, где, круто изгибаясь и отражая звездное небо, сонно течет тихий Дон?
Зимой и летом, осенью и весной, в солнечный день и непогоду идут и едут, плывут и летят к этому дому люди: литераторы, рабочие, колхозники, ученые, пионеры, зарубежные гости, просто туристы. Особенно частыми гостями бывают журналисты и начинающие литераторы. В летние месяцы они наводняют станицу. Среди начинающих немало одержимых и просто графоманов. От них, наверно, и пошел слушок, что Шолохов недолюбливает всякого рода писак, журналистов, избегает встречи с ними. Зашел как-то к нам в редакцию только что приехавший на Верхний Дон из Ростова собкор областной газеты и спрашивает:
– Правда, что Шолохов не балует нашего брата приемами?
– И правда и нет.
– Это как же понимать?
– А вот поживете в Вешках – поймете.
Корреспондент тут же снял телефонную трубку и попросил квартиру писателя. Отозвался сам Шолохов. Корреспондент представился и спросил:
– Можно, Михаил Александрович, зайти к вам на беседу?
– А вы когда к нам прибыли? – спросил писатель.
– Вчера.
– Тогда условимся так: побывайте в наших северных районах, познакомьтесь с жизнью колхозов и совхозов, а потом и встретимся – беседа получится интересной и полезной.
Только месяца через три после этого журналист снова попросил встречи у Шолохова, и писатель принял его, долго беседовал, шутил, угощал папиросами какой-то новой марки, взялся прочитать очерк журналиста и обещал дать ему для газеты новую главу из «Поднятой целины».
Другой журналист, из киевской «Радянськой Украшы», прямо с аэродрома пошел в райком партии и попросил первого секретаря посодействовать встретиться с Шолоховым. Тот созвонился с писателем, объяснил, в чем дело, и потом они долго чему-то смеялись. На другой день, беседуя за завтраком с украинским журналистом, Михаил Александрович сказал:
– То, что вы зашли с дороги прямо в районный комитет партии – хорошо, но зачем вам понадобилось организовывать встречу через секретаря райкома?
– Меня еще по дороге напугали, что с вами почти невозможно встретиться.
Теперь посмеялись и журналист и писатель. Беседа затянулась. Журналист спросил, сколько потребуется автору времени для завершения «Поднятой целины» и работы над новым романом «Они сражались за Родину».
– В творчестве, как в виноделии, требуется процесс брожения, – сказал Михаил Александрович. – Прежде чем образ или мысль вызревают, они должны перебродить.
Гость попросил дать для газеты какой-нибудь черновик рукописи.
– Черновики не храню ни для себя, ни для истории, – ответил Шолохов.
На вопрос об отношении Шолохова к публицистике писатель ответил перефразированным некрасовским изречением:
– Поэтом можешь ты не быть, но публицистом быть обязан.
Об этой своей обязанности Шолохов никогда не забывает. Над
публицистическими материалами он работает с такой же требовательностью, как и над художественными произведениями. Помню, в мае 1949 года Михаил Александрович много дней подряд не выходил из своего рабочего кабинета и никого из посетителей не принимал. В станице знали, что писатель работает для «Правды». Так готовилась его известная статья «Свет и мрак».
Шолохов – хороший советчик журналистов, он с уважением относится к их нелегкому труду. Весной 1950 года в вешенском Доме культуры проходило предпосевное совещание передовиков сельского хозяйства района, на котором он выступил с речью. Я записал, как мог, его речь и подготовил текст к печати. Перед сдачей в набор попросил Михаила Александровича познакомиться с выступлением. Через некоторое время в редакции зазвонил телефон.
– Вам когда сдавать материал в набор? – спросил Шолохов.
– Сейчас, немедленно.
– Видите ли, – сказал писатель, – ко мне прибыла тут одна делегация, но если надо срочно, я попрошу ее подождать.
Через полчаса Шолохов прислал исправленный, дополненный и заново переписанный от руки текст речи, который до сих пор хранится у меня. Эта речь вошла в восьмой том Собрания сочинений писателя.
В начале пятидесятых годов наша редакция переписывалась с молодым вешенским казаком, фотокорреспондентом газеты советских войск в Германии. Земляк прислал нам как-то из Берлина несколько номеров своей газеты, в одном из которых была напечатана корреспонденция о творческих замыслах Шолохова. Сообщалось, что писатель одновременно с «Поднятой целиной» работает над трехтомной эпопеей «Они сражались за Родину», которая по объему своему превзойдет «Тихий Дон». Говорилось в корреспонденции и о содержании будущей эпопеи. В первом томе будет якобы отражено начало Великой Отечественной войны и вынужденное отступление наших войск, во втором – сражение на Волге, в третьем – наступление Советской Армии и разгром фашистов в логове гитлеровской Германии – Берлине.
Мы решили перепечатать корреспонденцию в своей газете, но прежде чем сдать ее в набор, информировали об этом по телефону Шолохова.
– Любопытно, любопытно, – сказал писатель и попросил принести ему газету.
Прочитал он корреспонденцию и, улыбаясь, покачал головой.
– Вот уж эти вездесущие корреспонденты, – сказал он. – Доля правды тут, конечно, есть. Дело было так. Встретился я недавно в Москве со своим старым фронтовым знакомым, генералом, который служит в Германии, разговорились по душам, ну, я кое-что и поведал ему о своих творческих замыслах, а у него уже это и выудил журналист…
Серая овчаркаШолохов умеет не только много и плодотворно работать, но и хорошо организовать свой отдых. Охота и рыбалка – вот его страсть. Писатель может сутками бродить с ружьем по заснеженным полям или камышам, часами просиживать с удочками в укромном местечке на берегу Дона или Хопра. Во время охоты он строго собран, сосредоточен, но стоит разрядить ружье, как он сразу весь преображается: в глазах загорается озорная улыбка, а шутки, юмор льются, как из рога изобилия.
Как-то рыбачили на Хопре. Михаил Александрович с вечера облюбовал себе место на берегу и, отправляясь с удочками на утреннюю зорю, предупредил, чтобы к нему никто не подходил и не мешал. Солнце было высоко, все уже сошлись у палатки с рыбацкими трофеями, когда из кустов на поляну вышел Шолохов. На тонкой красной лозине он нес несколько больших сомят. Притопывая то одной, то другой ногой и потрясая связкой рыб, озорно пел:
И лес трещит,И комар пищит,И Михайло АлександрычТрех сомов тащит.И до чего хороша сваренная на костре уха!
Старший сын Шолохова, Александр, учился вместе со своей женой в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Приехал впервые с женой к родителям в Вешеискую. Писатель решил угостить их свежей донской рыбой. С рыбаками затянул невод. Улов оказался богатым.
– Ой, сколько рыбы! – восхитилась уловом невестка. – И куда мы ее денем?
– А вот наденешь беленький фартучек, – сказал Михаил Александрович, – и – на базар… У казаков такой обычай: снохи на базаре торгуют.
– Я торговать не умею, – всерьез испугалась та.
Михаил Александрович засмеялся.
– Ну, если не умеешь – раздавай бесплатно.
И тут же почти весь улов был роздан соседям.
Шолохов по-сыновьи любит свой край, природу, дорожит ее богатствами, непримирим ко всякого рода браконьерам. Как-то его младший сынишка с товарищами при свете автомобильных фар подстрелили на озимке зайца и привезли домой. Разгневанный писатель отобрал у юных охотников ружья и долго стыдил их за недостойные приемы охоты.
Был и такой случай. Михаил Александрович выстрелил в стаю бегущих по проселочной дороге куропаток. Одна из рванувшихся в воздух птиц ударилась о телефонные провода и упала. Писатель поднял ее. Она была жива, широко раскрытым клювиком жадно хватала воздух. Шолохов зачерпнул ладонью из придорожной лужицы воду и поднес к клювику птицы. После двух-трех глотков у куропатки блеснули черные глазки-бусинки, пружиня шейку, она, пытаясь освободиться, завертела маленькой, словно выточенной головкой. Михаил Александрович подбросил птицу в воздух, и куропатка, фыркнув крыльями, скрылась в рослых, невыкошенных у подлесков травах.
Писатель любит собак. Они – верные его спутники на охоте, прогулке. В короткие часы отдыха он не забывает приласкать своих четвероногих друзей – гончарок и утятниц. Они свободно разгуливают по двору, приветливо бросаясь навстречу каждому, заходят в дом, примащиваются у ног писателя в его рабочем кабинете. Но как-то один из приезжих гостей подарил Шолохову большую серую овчарку. Писатель принял ее без особого восторга, и потом никто не видел его рядом с этой собакой.
Однажды сынишка Миша с ребятами готовил в охотничьей комнате рыболовецкие снасти. Присутствовал и сам писатель. Вдруг дверь открылась – и в комнату вошла овчарка. Михаил Александрович метнул на нее сердитый взгляд.
– А ну, ребята, – сказал он, хмурясь, – прогоните ее во двор, и чтоб она не заходила в дом.
Ребята выпроводили овчарку и стали допытываться у Михаила Александровича, почему он недолюбливает эту собаку. Шолохов показал на своей руке неровный, с гладкой белесой кожицей шрам. И вот что узнали ребята. Было это в Великую Отечественную войну. Советские войска вели жаркие бои в Германии, с боем ворвались они в один из немецких городов, где был лагерь для военнопленных. Вместе с солдатами Шолохов проник на территорию лагеря, обнесенного колючей проволокой.
Когда распахнули двери одного из помещений, оттуда выскочила свора свирепых немецких овчарок и набросилась на наших солдат. Тогда-то и остался след зубов на руке Шолохова.
На полевом станеПрошел обильный весенний дождь, и все работы на полях остановились. В тепло натопленном вагончике трактористов Дударевской МТС остались только старик сторож и паренек-прицепщик. Примостившись на нарах у печурки, прицепщик увлеченно читал вслух томик «Поднятой целины», когда в вагончик зашел уже немолодой мужчина с пышными рыжеватыми усами, в стеганке, рабочих сапогах и шапке-ушанке. Он спросил бригадира. Паренек, приняв незнакомого за нового тракториста, которого ожидали из МТС, сказал:
– Бригадир должен скоро приехать. Ты раздевайся, дядя, у нас тепло, и послушай, что я читаю. Вот здорово написано.
Незнакомец посмотрел на книгу, потом на паренька, спросил:
– А что тебе больше в книжке нравится?
– Все! Особенно про деда Щукаря и колхозного председателя Давыдова. Ты послушай… – И прицепщик с прежним увлечением продолжал читать вслух «Поднятую целину».
Но незнакомец куда-то торопился, он распрощался и вышел из вагончика. А часа через два на полевой стан приехал бригадир.
– Шолохов был тут? – спросил он.
– Какой Шолохов? – недоумевали прицепщик и сторож.
– Какой! – передразнил бригадир паренька. – Один он у нас, Михаил Александрович. Невысокий такой, в стеганке.
– Да ты что! – скорее испугался, чем удивился прицепщик. – А я, дурак, ему его же книжку читал…
О чем шепчет старый дуб…Неподалеку от Вешенской за сосновым урочищем Зыбучий Бугор на поляне стоит дуб-великан. Основание его кряжистое, в несколько обхватов, а густолиственная, широкая, как купол цирка, крона нависла тяжелой тучей и затенила всю поляну, оберегая от горячего солнца крохотный быстрый ручеек, окаймленный нежной зеленью.
Кажется, под своей тяжестью дуб наполовину ушел в землю, но все равно, ширококрылый, он птицей парит над вершинами других деревьев.
Никто точно не знает, сколько дубу лет. Правда, в конторе Вешенского лесхоза есть фотография этого великана, сделанная в 1951 году, с короткой подписью: «Дуб. 370 лет». Но в народе о возрасте дуба говорят разное. Одни утверждают, что ему полтысячи лет, другие – еще больше: восемьсот.
Днем и ночью, в любую погоду, даже когда соседняя береза не шелохнет листком, дуб шумит в вышине своей кроной, что-то задумчиво шепчет…
Как-то в летнюю пору остался я ночевать в хуторе Черновском, у своего знакомого мельника. Хутор весь в зелени садов и левад, на несколько километров растянулся вдоль мелководной речушки Черновки. На самом конце его в бурных зарослях садов и дикого хмеля спрятался маленький став с такой же маленькой бревенчатой мельницей и белостенным домиком у самой воды. Мы сидели с мельником на старой, поваленной буреломом вербе, беседовали о житье-бытье, когда к нам подошел тонкий, сухой старичок в потертой фуражке с вылинявшим алым околышем, из-под которой торчали белые пушинки волос. Чисто выбритое лицо – в крупных складках, как печеный в костре картофель. На плече он держал суковатую палку с подвешенными на конце запыленными ботинками. Поприветствовав нас низким поклоном, старик присел рядом на конец бревна.
– Откуда это ты, Романыч? – спросил мельник.
– Из Вешек, – ответил старик, вытаскивая из кармана черный, до блеска затертый кисет.
– Али от Шолохова? – то ли всерьез, то ли в шутку опять спросил мельник.
– От него самого.
– Какая нужда носила?
Из дверей мельницы высунулась чья-то припорошенная мукой голова, и мельник, оставив нас, заковылял к мельнице. Романыч осмотрел меня с ног до головы, сказал:
– Нужда не нужда, а у каждого человека свое горе случается, свои думки наплывают. В сорок первом в один день похоронные получил на своих сынков, Николку и Федяшку. Однополчане сказывают, в танке сгорели. В том же году взяли мы с бабкой парнишку-сироту, вырастили, в армии отслужил, женили, а тут опять горе на наш дом навалилось. Умерла старуха, а вслед за ней – Серега, приемный сынок, преставился. Остался я один со снохой.
– Что, обижает? – спросил я.
– Нет. И зятя принял, тоже ласковый. И пенсией меня не обидели, а горю этим не поможешь. Сижу на бахче (сторожем я в колхозе), по грачам из ружья пуляю, веники сибирьковые вяжу, а думки все о своей жизни…
Старик покосился на меня и тихо, почти шепотом сказал:
– Он, Лександрыч, против каждого людского горя слово имеет.
– Что же это за слово?
Романыч опять испытующе посмотрел на меня, и я заметил, как в его глазах искоркой блеснула первая вечерняя звезда.
– Оно волшебное, – таинственно и многозначительно произнес старик и придвинулся ко мне вплотную. – Дуб-то, он, паря, абы кому не подарит это слово. Ты видел его, дуб-то, что у Зыбучего Бугра? Эге, паря, это не простой дуб. Он бессмертный. Ему столько веков, сколько воды унес в море тихий Дон. Он все слышит, все чует, где что делается, – корни его по всей земле расплелись. Он и видит все – голова его под самыми облаками. Много добра и зла видал за свою жизнь, много мудрости набрался, потому и стал бессмертным.
Расскажу тебе о дубе том сказку-быль, а ты – хочешь верь, хочешь не верь, дело твое.
Давно это, паря, было. Гуляли в ту пору по Дону банды беляков, житья от них трудовому люду не было. Не нравилась им молодая Советская власть, задушить ее хотели. Собрался тогда из трудового люда отряд и – навстречу банде. Сошлись на Зыбучем Бугре, шашки скрестили… Да так, что остался от отряда того один-одинешенек молодой боец, парнишка лет пятнадцати. Чудом, стало быть, уцелел. Пошел он к дубу, сел под ним и обхватил голову руками. Слышит, дуб что-то шепчет, спрашивает: «Что ты приуныл, паря, какие у тебя думки в голове?» Парнишка отвечает: «Командира моего зарубили бандиты, весь наш отряд уничтожили. Как теперь я помогу Советской власти, своему бедному люду?» И тогда еще ниже склонился дуб своими ветками к парнишке, зашептал: «Вижу, паря, мать дала тебе хорошее, доброе сердце, а я тебе дам волшебное слово. Бери его и неси людям. Для врага оно будет страшней острой шашки и длинной пики, для друзей – студеным ручьем, игристым донским вином, что бодрит сердце и утоляет жажду…»
С тех пор парнишка и стал приходить к дубу тому. Я сам видал его там однажды. Иду по тропинке, слышу: шепчет, шепчет дуб, а под ним – он… Не стал я мешать, прошел стороной. Он и теперь приходит. Только уже совсем белый стал, как я. А дуб все шепчет и шепчет…
* * *Далеко не у каждого литератора бывает такая завидная писательская судьба, как у Шолохова. При его жизни народ слагает о нем легенды, поэты посвящают ему стихи.
…Коль пойдешь ты ночью к Дону синему —Звезды в нем, купался, дрожат,Меловые горы, точно в инее,Важное теченье сторожат.Слушая наполненную шорохомЭту ночь и говор казаков,Ты невольно скажешь: «Это Шолохов!Вот его дыханье жарких слов!»Да, жаркое дыхание шолоховских слов обогревает сердца миллионов людей, делает их нежнее и мужественнее, обогащает нашу русскую, советскую культуру.
Леонид Кудреватых
Драгоценный узелок
Мне не раз говорили японские друзья-литераторы:
– Познакомься с Абэ-сан. Она лично знает Шолохова, переписывается с ним. Она много делала и делает для пропаганды его замечательного творчества в Японии.
Среди японской интеллигенции много друзей – поклонников и пламенных пропагандистов русской, советской литературы. Руководитель отделения русской литературы Токийского университета «Васэда» профессор Тацуо Курода недавно закончил многолетний труд – перевод «Клима Самгина» М. Горького. Он говорил со мной о том, как окрыляет человека вдохновенное творчество этого великого писателя. Каици Охара, еще совсем молодой человек, подарил мне книгу на японском языке – его перевод поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
– Недавно я прочитал «Василия Теркина» А. Твардовского, – говорил мне Охара. – Влюбился в поэму, в творчество этого замечательного поэта.
Накануне нашего отъезда из Японии семья Хидзиката, известных прогрессивных деятелей Японии, подарила нам полное собрание сочинений А. Макаренко, изданное на японском языке.
Беседовал я с десятками людей, подлинных друзей нашей литературы. Но с Абэ-сан долго не удавалось увидеться. Я написал ей открытку с просьбой повидаться и рассказать мне о встречах с М.А. Шолоховым. Она немедленно ответила телефонным звонком, а на следующий день приехала в «Гранд-отель», где мы жили в Токио. Небольшого роста, в черном платье, с располагающей улыбкой на лице, она поздоровалась и села на диван, положив рядом с собой узелок из цветастого японского платка.
– Как себя чувствует Михаил Александрович? – спросила она.
– По-моему, хорошо. Недавно он вернулся из поездки по Скандинавским странам. А вы давно знакомы с Шолоховым?
– Если двадцать два года считать большим сроком, то, значит, давно. Уже более двадцати лет мы не виделись. Ни с ним, ни с его семьей.
– И с семьей его знакомы?
– Мы не только знакомы, а, можно сказать, дружили.
Абэ-сан развязала узелок и достала номер японского литературно-художественного и общественно-политического журнала «Кайдзо» за 1935 год с уже пожелтевшими от времени листами. Она открыла страницы, на которых был напечатан ее очерк с фотографиями о посещении М.А. Шолохова в станице Вешенской. Появление этого очерка она объяснила так:
– Уже в то время в Японии высоко ценили творчество Шолохова. Читатели восторженно встречали переводы его книг. Самые различные люди интересовались всеми деталями творчества и жизни писателя. Я тогда работала в Москве, в японском посольстве, стенографисткой. Мой знакомый, редактор токийского журнала «Кайдзо» Ямамото-сан, письмом попросил меня побывать у Шолохова и взять у него интервью. Михаил Александрович в то время находился у себя дома, в станице Вешенской. Я послала ему открытку, изложив просьбу журнала. Вы поймете, какова была моя радость, когда я получила ответ, а в нем приглашение приехать в Вешенскую. Это была осень тысяча девятьсот тридцать пятого года. Я немедленно поехала на родину Шолохова. Встретили меня с радушием и подкупающей простотой. С первого же часа я стала как бы своим человеком в семье. Михаил Александрович спросил меня: